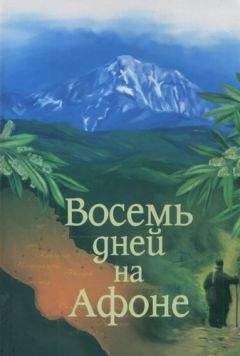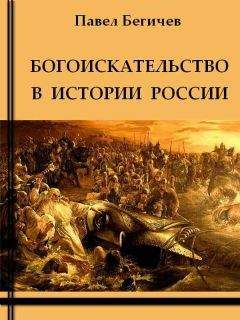Холодной и бесчувственной исповедью. Согрешаю сознательно, попирая обличающую совесть. Нет твёрдой решимости исправить свою греховную жизнь. Каюсь, что оскорблял(а) Господа своими грехами, искренно об этом сожалею и буду стараться исправиться.
(Ввиду обширности перечня грехов исповедь в них можно разбить на несколько раз, начиная с самых тяжких. Подлинное перед Богом покаяние предполагает не формальное и равнодушное перечисление каких-то своих плохих поступков, а осуждение своей греховности, искреннее, с сокрушением сердца исповедание грехов и решимость исправляться).
На улице возле главного храма нас поджидали отец Мартиниан и Володя. Мы очень тепло попрощались. Звучали дорожные наставления (в основном, давал их Володя): мол, тут два часа, не больше, как выйдете, сразу направо, и по дороге направо, всё будет хорошо, примут нас в Ватопеде, примут. Отцы благословляли. И уходить не хотелось, и в то же время, как ни странно, хотелось: я чувствовал себя легко, светло… и мне не терпелось скорее идти к Владыке. Собственно, выходя из Ксилургу, я и делал первый шаг.
И ведь не было такого чувства, что прощаемся навсегда и больше никогда не встретимся. Здесь даже дело не в том, что возможна встреча в ином мире (где будут они и где мы!), а в ощущениях присутствия человека в твоей жизни.
У меня есть один близкий человек, который жил в другом городе. Он очень много для меня значит. Я всегда представлял его мнение по тем или иным вопросам, ссылался на него: он поступил бы тут так, а тут бы сказал это. Мы переписывались, изредка созванивались. Совсем уж редко ездили друг к другу в гости. Этот человек болел и, случалось, наша переписка замирала на время. Но у меня не прерывалось ощущение его присутствия. Со временем мы стали писать реже, звонить почти перестали, про поездки в гости забыли совсем. Но от этого он не стал менее значим для меня, я так же продолжал апеллировать к его мнению, приводить его в пример окружающим, передавать другим то, чему он меня научил. И вот узнал, что он умер несколько месяцев назад. А я всё это время продолжал общаться с ним. День я провёл в тягостном состоянии, а потом вдруг понял, что ничего в общем-то не изменилось: я так же ценю его мнение, так же привожу его примеры и, если бы не это случайное известие о его смерти, то я так бы и считал его живым. И тогда, не знаю уж как это получилось, я вычеркнул это известие, и всё стало на свои места. Дело даже не в сохранившихся фотографиях и оставшихся в записях его голосе (я не люблю фотографии и вообще музейные ценности), а в моих ощущениях его присутствия. Для меня он остаётся живым.
Нечто подобное я ощутил при расставании в Ксилургу: я точно знал, что эти люди никогда не уйдут из моей жизни. Я не знаю, приведёт ли Господь меня ещё раз на Святую Гору (хотя я желаю этого с самого момента, как сошёл с парома в порту Уранополиса), не знаю, застану ли я их, да и Бог весть, что может статься на месте Ксилургу, — но они навсегда в моём сердце.
С этим чувством я вышел за ворота скита.
5
Мы прошли мимо неработающей бетономешалки — воскресенье, перед выходом повернулись, ещё раз низко поклонились чудесному русскому скиту Ксилургу и, свернув направо, вошли в лес. Дорога была знакома — по ней мы пришли, настроение самое великолепное, и пока поднимались в гору, делились восторженными эмоциями, подхватывая слова друг друга.
Когда вышли на макушку горы, с которой виден скит, ещё раз поклонились, обрели каменную тропу и стали спускаться к большой дороге — весь переход занял минут двадцать. Да мы и не заметили его, настолько увлечены были рассказами.
Ну, не могли мы молчать, каждого из нас так и распирало от радости, которой хотелось делиться с товарищами.
В основном восторгались отцом Николаем, его провидческим даром: как он затопил печку, предвидя, что будут гости; я вспомнил, что, показывая нам комнату, он сказал про четыре кровати: «Может, ещё кто придёт», — и пришли именно двое. Отец Борис, разумеется, восторгался подаренной камилавкой. Серёга раскололся про деньги, оказывается, когда отец Николай сказал ему: «Не всё же время тебе деньги считать», — к бизнесу это не имело никакого отношения — Серёга-то бухгалтер. (Честно говоря, меня это несколько удивило, Серёга больше походил на погрязшего в Интернете хакера или неделю бродившего по участку лесника). Алексей Иванович глубокомысленно молчал и время от времени вздыхал, как бы намекая, что и ему есть что сказать, но дело это сокровенное и поделиться он сможет, только если его сильно попросят. Но у нас пока и своего хватало.
Когда вышли на дорогу, отец Борис ничтоже сумняшеся повернул направо. Мы, разумеется, за ним — тоже нисколько не сомневаясь. Алексей Иванович спустился последним и спросил:
— Вы куда?
— Володя сказал: как выйдем на дорогу, надо направо идти.
— А Ватопед-то должен быть там, — и Алексей Иванович качнул рукой в левую сторону.
— Он вечно сомневается — натура такая, — извиняясь, пояснил я отцу Борису.
— Вообще-то море действительно там, — подтвердил Серёга. — Но тут такие дороги… Мы сейчас, скорее всего, обойдём эту гору справа и, по идее, выйдем к морю.
— Пошли, — скомандовал отец Борис.
Алексей Иванович смиренно двинулся за нами, про «сомневающуюся натуру», он, кажется, расслышал.
Идти было одно удовольствие. Дневной жар ещё не наступил, лёгкий ветерок, как весёлая собачонка, то и дело лез поиграться, да и весь окружающий мир радовался, словно только что с нами отстоял Литургию. И разве могло быть иначе воскресным днём здесь, где каждый кустик пропитан благодатью. И мы дышали ею, и шли по широкой петляющей дороге, укатанной европейскими грузовиками. Когда дорога в очередной раз, огибая гору, пошла налево, Алексей Иванович, пыхтя сзади, подал голос:
— Этак мы к Ильинскому скиту выйдем.
Отец Борис нахмурился. Я снова, извиняясь, развёл руками: мол, кого Бог послал в попутчики, тому и рады. Отец Борис ускорил шаг. Мы зашли за гору, закрывшую солнце, стало прохладнее, и пыл наш поостыл. Я тоже уже чувствовал, что идём не туда, но верить не хотелось — мы же идём направо! Я настолько был уверен в правильности нашего пути, что когда мы дошли до сложенных столбиком камушков, откуда мы вчера начали спуск в «урочище», а потом уткнулись в ограду Ильинского скита, я смог вымолвить к делу совсем не относящееся:
— А чего же нам монах вчера не сказал, что можно нормальной дорогой обойти эту ямину?
— Ну, во-первых, широкий путь, сам знаешь, куда ведёт, а во-вторых, мы бы не нашли знак, по которому надо было подниматься в гору, — Алексей Иванович, в отличие от нас, чувствовал себя уверенно. — Я говорил, надо было налево идти, — и как будто ничего неожиданного, для него, по крайней мере, не произошло, предложил: — Зайдём, что ли?
— И в самом деле, — поддержал я. — Раз уж дошли…
Вообще-то пауза была нужна: час-то мы, хоть и в приятном режиме, но оттопали, но более требовалось морально прийти в себя и разобраться: почему так получилось? Что мы сделали не так? Может, слишком самоуверенно повели себя, слишком много болтали по дороге, вместо того, чтобы молиться?
— Пожалуй, — согласился немного сконфуженный отец Борис и тут же приободрился: — Как раз и дорогу у кого-нибудь спросим.
И мы прошли на территорию скита. Разумеется, тут же встретился монах, отправлявший нас вчера в Ксилургу. Надо сказать, что в первую секунду на лице его отразился страх: одно дело знать, что есть привидения, другое — увидеть их. Мы радостно бросились под благословение, тот снова сказал, что монахи не благословляют, но, судя по всему, успокоился, однако всё же что-то робко спросил и в вопросе совсем уж тихо прозвучало слово «Ксилургу».
— Да ничего, слава Богу, дошли до Ксилургу. Кала, кала.
Монах с облегчением вздохнул и перешёл на более-менее понятную речь из смешения языков, объясняя, что мест нет и они сегодня ждут большую делегацию. То ли и впрямь от делегаций у них продыху нету, то ли это единственная причина, которую он мог изъяснить на русском — нам было без разницы, мы объявили, что идём в Ватопед и попросили показать дорогу.
— Ватопеди-и… — протянул монах и, судя по повисшей паузе, вчера, отправляя нас в Ксилургу, он сомневался меньше.
Искренность победила в нём, и он сокрушённо покачал головой и тут же затянул песню про делегацию.
— Мы всё равно пойдём в Ватопед! — решительно произнёс отец Борис.
«Вот молодец! — подумал я. — Мне бы его пренебрежение к обстоятельствам».
Монах снова вздохнул и стал жестами показывать, что для начала надо спуститься в урочище. Всё-таки некая неуверенность в его объяснениях присутствовала, скорее всего, он никак не мог понять, почему, если мы шли в Ватопед, то оказались тут.
— Нам бы кофейку перед дорожкой, — напомнил о гостеприимстве Алексей Иванович, а заодно как бы пояснил причину нашего появления.