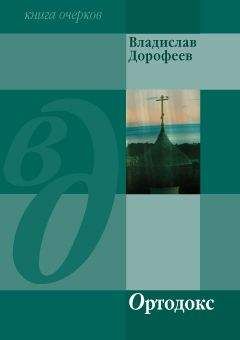Когда мы беспечны, когда мы бездельны и молоды, нам хочется оспорить поговорку «Катящийся камень мхом не обрастает». Мы спрашиваем: «Кому нужен мох кроме глупых старушек?»; но со временем узнаем, что поговорка верна. Катящийся камень громко гремит; однако он мертв. Мох тихо молчит; он жив.
Да, от туризма и от науки мир становится меньше. Он стал меньше из–за пароходов и телеграфа. Он меньше из–за телескопа; только в микроскопе он больше. Скоро люди разделятся на приверженцев телескопа и приверженцев микроскопа. Первые исследуют вещи крупные и живут в маленьком мире; вторые исследуют вещи мелкие и живут в мире просторном. Что говорить, приятно пронестись в автомобиле вокруг Земли, чтобы Аравия мелькнула вихрем песка, Китай — полоской поля. Но Аравия — не вихрь, и Китай — не полоска, а древние культуры, чьи странные добродетели скрыты, словно клад.
Если хочешь понять их, надо не путешествовать и не исследовать, но обрести верность ребенка и великое терпение поэта. Побеждая эти страны, мы их теряем. Тот, кто стоит в своем огороде, глядя за ворота, в сказочный край, — человек широких взглядов. Разум его создает пространства, автомобиль их пожирает. Теперь, как учительница в школе. Землю видят глобусом, шаром, который нетрудно обойти; потому и ошибаются так страшно, рассуждая о Сесиле Родсе [1853–1902, британский политический деятель, премьер–министр Капской колонии, один из инициаторов англо–бурской войны 1899–1902].
Враги его говорят, что, возможно, мыслил он широко, но человек был дурной. Друзья говорят, что, может быть он и дурен, зато широко мыслил. Истина же в том, что он не был особенно плохим — он был даровит, иногда он хотел добра, — но вот взгляды у него были исключительно узкие. Нет ничего широкого в том, чтобы закрасить карту одним цветом, дети часто так делают. Думать о континентах не труднее, чем думать о камушках. Трудности начнутся тогда, когда мы попытаемся понять континент или камень. Пророчества Родса о том, станут ли сопротивляться буры, прекрасно показывают, какова цена «широты взглядов», когда речь идет не о континентах, а о кучке обычных людей.
Расплывчатый образ «света вообще», со всеми его империями и агентством Рейтер, — сам по себе; а под ним, нимало его не касаясь, человеческая жизнь с вот этим деревом и вот этим храмом, этой жатвой и этой песней, глядит с удивленной улыбкой на то, как автомобильная цивилизация победоносно проносится мимо прекрасных захолустий, обгоняя время, попирая пространство, видя все и ничего не видя, покоряя всю Солнечную систему, чтобы найти, что Солнце — скучновато, планеты — провинциальны.
В старые добрые времена, когда не ведали нынешнего уныния и милый, уютный Ибсен наполнял нашу жизнь здоровой радостью, а сентиментальные романы забытого Золя вносили в наш дом чистоту и веселье, считалось, что плохо, если тебя не понимают. Нужно подумать о том, всегда ли это плохо. Если враг не поймет нас, он не узнает нашего слабого места и попытается ловить птицу сетью, поражать рыбу стрелой. Приведу современный пример. Здесь прекрасно подойдет Остин Чемберлен [британский государственный деятель, 1863–1937]. Он непрестанно побеждает или обходит своих врагов, ибо истинные его достоинства и недостатки сильно отличаются от тех, которые видят в нем и противники, и сторонники.
Для сторонников он — человек дела, для противников — грубый деляга, тогда как в реальности он прекрасный оратор и романтический актер. Ему доступна самая суть мелодрамы — он умеет казаться одиноким и загнанным, хотя его поддерживает огромное большинство. Толпа так рыцарственна, что ее герой должен быть несчастным; это не лицемерие, а дань, которую сила платит слабости. Нелепо — и все же красиво — его заявление о том, что город остался ему верен. Он носит в петлице яркий и странный цветок, словно второстепенный поэт из декадентов. Что же до грубости и практичности и призывов к здравому смыслу, все это — самый обычный ораторский прием? Цель у оратора — иная, чем у поэта или скульптора.
Скульптор должен убедить, что он скульптор, оратор — что он не оратор. Примите Чемберлена за грубого практика, и дело его в шляпе. Стоит ему сказать что–нибудь про империю, как все закричат, что, когда приходит час, простые, практичные люди изрекают великие истины. Стоит ему пуститься в пустую риторику, знакомую любому актеру, и все признают, что, в конце концов, у деловых людей — высокие идеалы. Планы его развеялись дымом, он ничего не сделал, только все запутал. Он трогает сердце, как тот кельт у Мэтью Арнолда, который «шел в бой и никогда не побеждал» [Арнолд М. Исследование кельтской литературы. 1867, гл. IV]. Поистине, это какая–то гора проектов и неудач. Но все же — гора; а горы романтичны.
Есть и другой человек в нашем мире, обретший радость непонимания. Он во всех отношениях непохож на Остина Чемберлена. Те, кто спорит с Бернардом Шоу, и те, кто с ним согласен (если такие люди есть), считают его смешным и занятным, как фокусник или клоун. Все говорят, что его нельзя принимать всерьез; что он защищает и бранит, следуя собственной прихоти; что он готов на все, только бы вызвать удивление и смех. Это не просто ложь, это — полная противоположность правде. С таким же успехом можно сказать, что Диккенсу не хватает неистового пыла Джейн Остин. Сила и слава Бернарда Шоу — в его удивительной последовательности. Он хорош не тем, что прыгает сквозь обруч или стоит на голове, а тем, что он день и ночь защищает свою крепость. Быстро и строго прилагает он свои принципы ко всему, что случается на небе и на земле. Мерка его неизменна. Слабые разумом мятежники и слабые разумом противники перемен ненавидят (и боятся) в нём именно этого. Им ненавистно, что ценности его так тверды, закон — так суров.
Можно нападать на его веру, что я и делаю, но совершенно невозможно обвинить его в непоследовательности. Если он не любит беззакония, он не потерпит его ни в социалисте, ни в империалисте. Если он не любит пылкого патриотизма, он не потерпит его ни в бурах, ни в англичанах, ни в шотландцах. Если он не любит уз и обетов брака, еще более претят ему обеты и узы незаконной любви. Если он обличает безответственность веры, он обличит и безответственность искусства. Он угодил богеме, провозгласив, что женщины равны мужчинам, но сильно рассердил ее, прибавив, что и мужчина равен женщине. Справедливость его безошибочна, как механизм; в нем есть что–то страшное, как в машине. Причудлив и дик, своенравен и непредсказуем не Шоу, а самый обычный министр. Это сэр Майкл Хикс–Бич прыгает сквозь обруч. Это Генри Фаулер стоит на голове.
Важный и уважаемый политик и впрямь непрестанно меняет позицию; он готов защищать что угодно, и его не примешь всерьез. Я прекрасно знаю, что скажет Шоу через тридцать лет. Он скажет то же самое, что говорит сейчас. Когда через тридцать лет я встречу старца с седой бородой до земли и произнесу: «Женщин обижать нельзя», почтенный патриарх поднимет иссохшую руку и собьет меня с ног. Да, мы знаем, что скажет тогда Шоу. Но какой пророк и оракул посмеет предположить, что скажет тогда мистер Асквит?
Почему–то считают, что отсутствие убеждений дает уму живость и свободу. Это не так. Тот, кто во что–нибудь верит, ответит точно и метко, ибо оружие его при нем, и мерку свою он приложит в мгновение ока. Человеку, вступившему в спор с Бернардом Шоу, может показаться, что у того десять лиц. Так человеку, скрестившему шпагу с блестящим дуэлянтом, может показаться, что у него — десять клинков. В том–то и дело, что клинок — один, но очень верный. Глубоко убежденный человек кажется странным, ибо он не меняется вместе с миром. Миллионы людей считают себя здравомыслящими, потому что они успевают заразиться каждым из модных безумий; вихрь мира сего втягивает их в одну нелепость за другой.
Про Бернарда Шоу и даже про тех, кто много глупее его, обычно говорят: «Они хотят доказать, что белое — это черное». Лучше бы сперва подумать о том, точно ли мы обозначаем цвета.
Не знаю, зовется ли белым черное, но желтое и розовато–бежевое белым зовется. Белое вино — светло–желтое, а европейца, чье лицо неопределенного, бежеватого, иногда розоватого цвета, мы именуем «белым человеком», что звучит жутко, как описание призрака у Эдгара По.
Если кто–то попросит официанта принести желтого вина, тот усомнится в его разуме. Если чиновник сообщит из Бирмы, что там живет «две тысячи бежеватых людей», его сочтут глупым шутником и выгонят со службы. Однако оба пострадают за правду. Бернард Шоу — именно этот правдолюбец из ресторана, именно этот правдолюбец из Бирмы. Все думают, что он сумасброд и чудак, потому что он не называет желтого белым. И блеском своим и твердостью он обязан очевидной, но забытой истине, гласящей, что правда удивительней выдумки. Иначе и быть не может; ведь выдумка должна угодить нам.