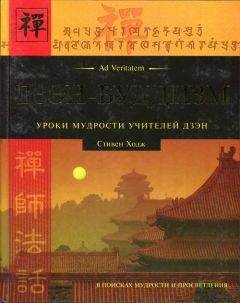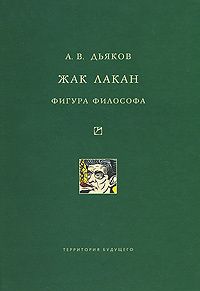Таким образом, первая статья, прокомментированная Грановым, интересна тем, что по тенденции своей она противостоит главенствующему на сегодняшний день теоретическому направлению психоанализа. Вторая статья кажется мне еще более интересной, поскольку в ней исследуется то, к какой "потусторонней" области, к какой реальности, к какой "действительности", как говорится в статье, отсылает нас значение. Это ключевая проблема.
Вы непременно окажетесь на тупиковом пути (что прекрасно демонстрируется современными тупиками аналитической теории), если не знаете, что значение отсылает всегда лишь к себе самому, т. е. к другому значению.
Всякий раз, как в анализе языка нам приходится искать значение некоторого слова, в нашем распоряжении есть лишь один верный метод — изучить все способы употребления данного слова в языке. Если вы хотите узнать значение во французском языке слова main, вы должны составить список этих способов, где учитывалось бы не только те случаи, когда оно представляет орган, кисть руки, но также его участие в словах типа татd'oeuwe (рабочая сила, рабочие руки), тсаптке (захват, порабощение), mammorte (крепостное состояние, связанное с лишением права распоряжаться своим имуществом) и т. д. Значение слова задается всей суммой его использований.
Как раз с этим-то мы и имеем дело в анализе. Нам ни к чему изнурять себя поиском дополнительных смысловых связей. Что за нужда говорить о реальности, которая была бы основой так называемых метафорических использований слова? Любое использование слова является в некотором смысле метафорическим. Метафору не следует отделять, вопреки тому, что говорит Джонс в начале своей статьи о теории символизма, от самого символа и его использования. Пусть я обращаюсь к какомунибудь существу, сотворенному или предвечному, называя его "солнце души моей", — будет ошибкой думать, подобно Джонсу, что речь здесь идет о сравнении между тем, чем являешься ты для моей души, и тем, что представляет собой солнце, и т. п. Сравнение является лишь вторичным развертыванием первичного явления на свет самого метафорического отношения, которое бесконечно богаче всего того, что я в состоянии вам сейчас по этому поводу рассказать.
Это явление на свет включает в себя все то, что может присоединиться к нему впоследствии и что я, сам того не ведая, успел сказать. Благодаря тому, что я сформулировал подобное отношение, в область символа вступаю я сам, мое существо, мое признание, моя мольба. Выражение это само собой подразумевает тот факт, что солнце согревает меня, дает мне жизнь, является центром моей гравитации и еще, что оно производит ту тусклую сторону тени, о которой говорит Валери, и что оно же слепит меня, придавая вещам ложную очевидность и обманчивое сияние. Ведь максимум света является одновременно и источником всякого мрака. Все это подразумевается символическим обращением. Появление символа буквально творит в человеческих отношениях порядок нового бытия.
Вы возразите мне, что все же существуют несводимые выражения. И кроме того, сошлетесь на то, что творческое употребление символического обращения мы всегда можем свести к уровню фактов, и что для метафоры, приведенной мной в качестве примера, всегда найдутся более простые, органические, животные выражения. Попытайтесь сделать это сами — вы убедитесь, что никогда не выйдете за пределы мира символа.
Допустим, вы станете ссылаться на органические признаки так, например, в начале "Сида" чтобы выразить свое любовное чувство по отношению к молодому кавалеру, инфанта говорит Леонору: "Приложи свою руку к моему сердцу". Что ж, ссылка на органические признаки используется внутри признания как свидетельство — свидетельство, приобретающее свою остроту лишь в той мере, как: "Я помню, унизиться в своем сане мне было все равно, что кровь пролить*. В самом деле, ровно в той мере, как она запрещает себе свое чувство, она взывает к фактическому элементу. Факт биения ее сердца приобретает свой смысл лишь внутри символического мира, вырисовывающегося в диалектике чувства, которое борется с собой или которому неявно отказано в признании той, что его испытывает.
Итак, как вы видите, мы подошли к тому, на чем остановились в прошлый раз.
Всякий раз, когда мы находимся внутри строя речи, все, что утверждает в реальности некоторую другую реальность, в пределе, приобретает свой смысл и свою остроту лишь в зависимости от самого этого строя речи. Если эмоция может быть подвергнута смещению, инвертированию, торможению, если она вовлекается в определенную диалектику, то именно потому, что она захвачена символическим порядком, исходя из которого другие порядки, воображаемое и реальное, занимают свое место и упорядочиваются.
Еще и еще раз я попытаюсь дать вам это почувствовать. Давайте сочиним одну байку.
Однажды спутники Улисса — как вам известно, с ними случалось немало всяких злоключений, и я думаю, что ни одному не удалось завершить ту их прогулку — были превращены за их постыдные склонности в свиней. Тема метаморфоз вполне справедливо вызывает наш интерес, поскольку она ставит проблему границы между человеком и животным.
Итак, они были превращены в свиней, а мы попробуем продолжить историю.
Надо полагать, они сохранили все же какие-то связи с человеческим миром, поскольку в свинарнике — а свинарник является обществом — они сообщают при помощи хрюканья о своихразличных потребностях, голоде, жажде, похоти и даже стадном чувстве. Но это еще не все.
Что можно сказать о таком хрюканье? Не является ли оно одновременно посланием, адресованным иному миру? Вот что лично я здесь слышу. Спутники Улисса хрюкают следующее: "Мы сожалеем об Улиссе, жаль, что его нет с нами, мы сожалеем о его наставлениях, о том, чем он был для нас в жизни."
Благодаря чему в хрюканье, доносящемся до нас среди шумного шуршанья щетины в замкнутом пространстве свинарника, мы распознаем речь? Не потому ли, что тут выражается некоторое амбивалентное чувство?
В данном случае мы прекрасно видим то, что в разряде эмоций и чувств мы называем амбивалентностью. Ведь Улисс в качестве проводника был своим спутникам скорее неприятен. Однако когда те были превращены в свиней, у них, конечно же был повод сожалеть об его отсутствии. Откуда и возникает догадка о том, что они сообщают.
Таким измерением нельзя пренебречь. Но достаточно ли его, чтобы сделать из хрюканья речь? Нет, поскольку эмоциональная амбивалентность хрюканья представляет собой реальность, которая по сути своей не организована.
Хрюканье свиньи становится речью лишь тогда, когда кто-либо задается вопросом, во что оно хочет заставить нас поверить. Речь является речью ровно в той мере, как кто-либо верит ей.
И во что же, хрюкая, хотят заставить нас поверить спутники Улисса, превращенные в свиней? — Да в то, что они еще сохранили нечто человеческое. И в таком случае ностальгия по Улиссу равноценна их, свиней, притязанию быть признанными в качестве спутников Улисса.
Именно к этому измерению принадлежит речь в первую очередь. Речь, по сути своей, является средством получения признания. Она уже здесь — прежде всего того, что лежит позади. И потому она амбивалентна и совершенно бездонна. Истинно ли то, что она говорит? Или нет? — Это мираж. Это первоначальный мираж, убеждающий вас в том, что вы находитесь в области речи.
Без этого измерения коммуникация представляет собой лишь некоторое средство передачи, примерно того же порядка, что и механическое движение. Я только что упоминал о шуршании щетины, о шорохе общения внутри свинарника. Да, именно так — анализ хрюканья целиком сводится к механическим терминам. Но с тех пор как хрюканье хочет нас заставить поверить во что-то и требует признания, существует речь. Вот почему, в некотором смысле можно говорить о языке животных. Язык животных существует ровно постольку, поскольку есть кто-либо, чтобы его понять.
Обратимся к другому примеру, заимствованному мной из статьи Нюнберга, вышедшей в 1951 году, "Transferenceandreality". Вопрос в ней ставится о том, что такое перенос. Все та же проблема.
Крайне забавно видеть, как далеко заходит в ней автор и насколько он запутывается. Для него все происходит на уровне воображаемого. Основанием переноса, полагает он, является проецирование в реальность чего-то, что в ней отсутствует. Субъект требует, чтобы его партнер являл собой форму, модель его отца, например.
Вначале он упоминает случай одной пациентки, которая все время сурово распекала аналитика, бранила его, упрекала его в том, что он плохо работает, что его вмешательства неумелы, что он ошибается и дурно ведет себя. Что эте^-случай переноса? спрашивает себя Нюнберг.
Любопытно, что он (имея на то свои основания) отвечает нет, здесь скорее готовность, readiness, к переносу. В этот момент в своих обвинениях пациентка дает услышать требование, первичное требование реального лица, и несоответствие реального мира в отношении требуемого как раз и движет ее неудовлетворенностью. Это не перенос, но его условие.