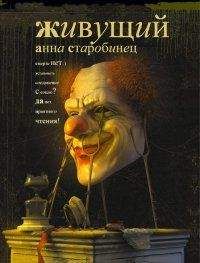Ученые давно знают о том, каким фрагментам Геродота можно, а каким нельзя доверять. Однако у мифологической истории свои законы — она красивей реальной и потому живет сама по себе. В разделе, который ученый грек посвятил Вавилону, очень немного точных сведений (кроме приведенного выше искаженного сообщения о культе Иштар). Неверно указаны размеры самого города, его главного святилища, высота зиккурата. У Геродота зиккурат действительно достигает библейских размеров, потому что, согласно ему, только первая ступень (из восьми) уже достигала одного стадия (192 м) в высоту[489]. Даже врачей — и тех у вавилонян, оказывается, не было. В общем, все это малодостоверно, и даже закрадывается сомнение, а посещал ли отец истории Вавилон, как то обычно считается? Не получил ли он все свои сведения от различных торговцев или персидских эмигрантов?[490]Добавим, что в упомянутом пассаже содержится и моральная оценка: обычай священной проституции, дескать, «самый позорный».
В силу того, что европейское Средневековье использовало античное наследие достаточно односторонне, а значительную его часть попросту уничтожило, в культурной памяти накрепко отпечаталось, что вавилонский разврат гораздо хуже эллинского (о последнем старались не упоминать, хотя отвертеться от Платона довольно трудно). Безусловно, у образованного эллина классической эпохи сексуальные культы не пользовались большим авторитетом, но все-таки не стоило делать вид, что эти «позорные» обычаи свойственны только далекому Востоку. Впрочем, не исключено, что, критикуя нравы иных земель, некоторые авторы могли намекать и на своих соотечественников[491].
Возможно, некоторую роль в подобном отношении к восточным обрядам играл существоваший во времена Геродота контраст: тогдашний дионисиискии культ, о котором он не мог не знать, стоял за пределами обыденной повседневности, был экстраординарным, в бахтинском смысле карнавальным, «праздничным» и отмечался определенной группой лиц в строго отведенные сроки и не всегда публично. Вавилонский же храмовый разврат мог предстать заезжему эллинскому туристу беспорядочным, повальным и, главное, бессмысленным. Откуда ж любознательному иноземцу было знать, что его позднеантичные потомки еще возьмут на вооружение многие, даже слишком многие достижения восточных соседей? И что размах их увлечения такими обычаями будет иметь самые долгоиграющие последствия? И что цивилизация — наследник греко-римской ойкумены — христианская Европа, породившая неозападный мир XXI в., в итоге отпустит древним грекам все прегрешения, даже реальные, и не простит вавилонянам даже мнимых? Или, еще точнее, не простит вавилонянам своих собственных прегрешений и дефектов, но чтобы добиться их отчуждения, отделить от себя в психологическом смысле, обозначить их ненужность и порочность одновременно, назовет их «вавилонскими».
Заметим, что и древнееврейская культура не совсем чуралась сексуального компонента. Не исключено, что подобные обряды закономерно становились неотъемлемой частью любой древней религии. Главным памятником соответствующего эпизода иудейского духовного развития является знаменитая книга Песни Песней Соломона. Происхождение ее — вещь запутанная и решения не имеющая. С одной стороны, считается, что Песня написана достаточно поздно и совсем не в Соломоновы времена, а имя великого царя за ней укрепилось случайно. С другой — не будь у этого текста древней и продолжительной истории, совершенно не понятно, как вообще мог возникнуть вопрос о ее включении в канон. Есть в Песне и определенные историко-филологические реалии, указывающие на раннее возникновение хотя бы некоторых ее фрагментов. Также очевидны ее эротико-любовный характер и заметный контраст, в котором она находится по сравнению с предметами других книг Писания.
Мудрецы поздней античности решили эту задачу как смогли: одни сообщили евреям, что в Песне повествуется об аллегорической любви Бога к Израилю, а другие уверили христиан в том, что речь здесь идет исключительно о любви Спасителя к Церкви. Принять эту аргументацию довольно трудно. Должен был быть серьезный резон, чтобы начать изобретать подобные доводы: значит, этот текст на протяжении достаточно долгого срока уже считался священным, и это было общепризнанно. Поэтому не исключено, что создание Песни Песней, по крайней мере ее начальной формы, воистину не так уж далеко отстоит от времени сына Давидова[492]. Здесь лишь укажем на одно интереснейшее наблюдение: существует не просто близость настроения Песни Песней и некоторых шумерских любовных текстов, возможно в каком-то смысле связанных с брачным обрядом, между ними есть «буквальные построчные совпадения»{142}.
С одной стороны, их не так уж много, а с другой — они носят, если так можно сказать, технический характер и связаны, например, с проникновением любовника в дом возлюбленной (как в прямом, так и в переносном смысле), а также самого их положения на ложе[493]. Вместе с тем очевидно, что в месопотамских текстах царит уж очень неприкрытая эротика, насыщенная вполне конкретными плотскими образами. Песнь же гораздо больше заострена на чувствах, эмоциях ее героев, что делает ее образы более интересными, вневременными, общечеловеческими. К ним можно возвращаться снова и снова. Тексты же шумерские не вызывают желания их многократно перечитывать, они любопытны, в первую очередь, с точки зрения историко-этнографической, хотя и свидетельствуют, что уже пять тысяч лет назад «диалог любовников в разгаре страсти»{143} мало отличался от нашего. Непреходящая литературная ценность Песни очевидна, несмотря на то что ее композиция явно смазана, и поэтому о ее конкретном содержании существует множество гипотез и версий, принадлежащих в том числе и людям очень творческим.
При этом достижения, как обычно, суть обратная сторона потерь. Кажется, что художественная высота Песни Песней (не исключено, достигнутая каким-то относительно поздним автором или редактором) призвана компенсировать утрату ее текстом фигур и мотивов плотской эротики, образов, параллельных месопотамским, а потому в какой-то момент очень нежелательных с идеологической точки зрения[494]. Если наша догадка верна, то такая потеря должна была со временем привести к определенным утратам в эротической традиции, отчего больше всего пострадали даже не евреи, а наследовавшие им в цивилизационном смысле христиане.
Когда иудейские переселенцы впрямую столкнулись с феноменом «свободной любви», занимавшим в том обществе, где им выпало жить, одно из центральных мест, то (логично заключить) именно он стал олицетворять для них все чужеродное, все «не свое». Помимо этого, принятие подобного стиля жизни стало символизировать уход от иудаизма: сначала социальный, а затем и религиозный. Поэтому основное острие новой пророческой идеологии было направлено против местного культа, оттого и объяснение вызвавших гнев Господень прегрешений Израилевых стало обсуждаться в весьма откровенных выражениях: «Так говорит Господь дщери Иерусалима: …Ты понадеялась на красоту твою, и стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему»[495].
Иначе говоря, «дщерь Иерусалима» вела себя как заправская храмовая проститутка и за это была наказана Господом. И в дальнейшем Книга Иезекииля и родственные ей сочинения не раз объединят распутство религиозное и физическое. Как уже говорилось, эти образы с легкостью перетекают друг в друга. Например, наказание Господне Оголиве-Иерусалиму воспоследует «за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя»[496].
Давно подмечено, что во второй половине этой знаменитой главы о нарушениях культовых говорится в тех же выражениях, что и о сексуально-политических прегрешениях древнееврейских государств, перечисленных ранее{144}. Согласно такой историко-эротической концепции Огола-Израиль сначала блудила с Ассирией (союз второй половины VIII в. до н.э., возможно в виду имеется даже более ранний альянс 842 г. до н.э.), но при этом «не переставала блудить и с Египтянами» (попытка антиассирийского мятежа в 725 г. до н.э.), за что Господь «отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура» (гибель Израиля в конце VIII в. до н.э.). Что до Оголивы, то она «еще развращеннее была… и блужение ее превзошло блужение сестры ее». Сначала заигрывала с ассирийцами, потом с вавилонянами (непонятно, о чем идет речь — антиассирийском союзе с Мардук-апла-иддином в конце VIII в. до н.э. или неохотном подчинении империи почти 100 лет спустя), а потом вспомнила «дни молодости своей, когда блудила в земле Египетской» (последний из обреченных союзов с Египтом, приведший к разрушению Иерусалима)[497].