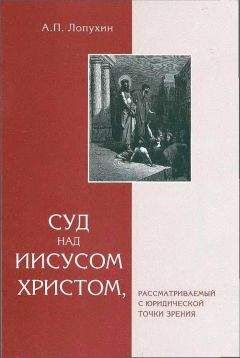Утром в эту пятницу Пилат заседал в своей претории, решал дела и отправлял правосудие, как обыкновенно. Нельзя определить наверно, в каком месте Иерусалима находилось на этот раз его судейское седалище. Может быть, в крепости под башней Антония, под этим видимым символом римского владычества, грозно возвышавшимся около храма, а быть может (что гораздо более вероятно) [73], римский суд происходил в «претории Ирода», великолепном дворце к северу от храма, описанном Иосифом Флавием и выстроенном незадолго до этого времени идумейскими царями. Пред дворцом лежало белое мраморное полукружие, представлявшее собою открытое пространство, обращенное к священному городу и бывшее почти таким же общественным местом, как пространство между крепостью Антония и храмом. На этом помосте мог быть воздвигнут в самое короткое время подвижный трибунал (Bema или βημα). В это утро Пилат еще заседал в палате суда — внутри дворца; извне слышался шум восточного города, пробуждающегося накануне пасхи: внутри раздавался лязг римского оружия, возвышались алтари римских богов и, может быть, стояло скульптурное изображение далекого полубога Тиверия. Священники и учителя народа, строго соблюдавшего свои народные обычаи, не могли входить в эту языческую палату в продолжение всей священной недели пасхи; и римлянин, с своей римской усмешкой, охотно устранил это затруднение, сам вышедши за ворота со своими воинами-ликторами. Когда взор Пилата упал на Узника, стоявшего пред ним со связанными руками, то первыми словами правителя были следующие: в чем вы обвиняете человека сего [74]? Мы узнаем здесь сразу подлинный голос римского правосудия. Нет сомнения, эти слова прямо указывали на собственное право и власть Пилата переисследовать дело. Иначе их нельзя и понимать. Они, кроме того, напоминают благородное изречение Пилатова преемника на этом седалище: «У римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть прежде, нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения» [75]. Так всегда говорил худший из римских правителей (а ни Пилат, ни Фест не принадлежали к лучшим) — по одному инстинкту и преданию правосудия, не оставлявшим их и среди вероломных племен. Главные священники и книжники не желали представить требуемое обвинение в определенных чертах. Если бы Он, — говорили они, — не был злодей, мы не предали бы Его тебе [76]. Это наглое уклонение от прямого ответа на вопрос Пилата не могло расположить его в пользу обвинителей, и он тотчас же становит дело на его законную почву спокойным, но несколько презрительным возражением: Возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его [77]. На это обвинители отвечали с упорством: Нам не позволено (ουκ εξεστίν) предавать смерти никого. Ответ объяснял то, что, может быть, заключалось уже в слове «злодей» и на что указывало ясно представление Узника на суд Пилата, — именно, что они явились для принесения уголовного обвинения. Этим закончилось предварительное объяснение [78].
В этом пункте настоящей истории возникает вопрос о столкновении судебных властей и о юрисдикции. Зачем иудеи пошли к Пилату, когда их синедрион произнес над Иисусом приговор: повинен смерти [79]? Были ли иудеи вправе произнести такой приговор? Или, имея это право, они не имели только власти привести его в исполнение? Как далеко простиралась власть правителя: мог ли он отменить приговор синедриона или только приостановить исполнение его? Кто из них — правитель или синедрион — имел jus vitae aut necis (право жизни или смерти)? В каком отношении находились во времена Иисуса друг к другу две власти — иудейская и римская? Вопросы эти весьма трудны, и ученые в своих ответах высказывают различные даже до противоположности мнения. В споре между Салвадором и Дюпеном первый (оставаясь в этом случае верным роковому воплю своего народа: кровь Его на нас и на чадах наших) пытался доказать, что синедрион имел полное право судить даже уголовные преступления и что его смертный приговор нуждался только в утверждении римского правителя. Противник Салвадора утверждал, что иудейский суд не имел вовсе права судить тяжкие или, по крайней мере, уголовные преступления, что все его действия в настоящем процессе были злоупотреблением власти и что единственно действительным, или законным, судом был тот, который происходил у Пилата. Мы не имеем намерения разбирать громадную массу исторических исследований, которые были сделаны относительно этого, бесспорно, трудного пункта. В исторических памятниках не сохранилось точных и решительных указаний для решения постановленных вопросов. Так, было бы слишком поспешно приписать достоинство хронологической точности свидетельству талмуда, что «за сорок лет до разрушения храма суд в уголовных делах был отнят у Израиля». Но оно очень замечательно в том отношении, что указывает время, около которого, по признанию учителей еврейского закона, власть над жизнью и смертью (без сомнения, уже ограниченная или отмененная при деспотическом владычестве Ирода) была отнята у них окончательно. Но вообще об отношении двух рассматриваемых властей можно представить, однако, несколько соображений, которые, кажется, не всегда имелись в виду у исследователей. Вот эти соображения:
1) Относительно этого предмета между римлянами и иудеями не было договора. Последние были народ покоренный; их судебные права, включительно с властью над жизнью и смертью, были отняты у них de facto (на деле), и они были обязаны покориться. Но de jure (по праву) они никогда не признавали этого. Для них, по крайней мере для громадной массы народа, синедрион оставался все-таки народной властью, особенно по обвинениям, касавшимся религиозных предметов.
2) С римской точки зрения это дело имело совершенно иной вид. Взгляд римлян на судебные права покоренных народов вообще и иудеев в частности был тот, что они должны иметь такие права, какие признают за лучшее дать им они — повелители. В большей части случаев эти права были весьма обширны. Римский правитель утверждал или даже сам заботился о точном исполнении прежних законов страны; при этом политика правящей власти делала все возможные уступки местному самоуправлению. Эти уступки, естественно, имели самые широкие размеры там, где со стороны провинции не замечалось расположения к борьбе с покорителями. В римском законе, как и в римских войнах, в вопросах правосудия, как и в вопросах политики, правилом мудрых и надменных властителей мира было parcere subjectis et debellare superbos (щадить покорных и покорять гордых).
3) Очевидно, что в отношении к этому предмету давался широкий простор высшим римским сановникам — проконсулам или прокураторам, при исполнении ими обязанностей высшего правосудия. Республика и император дозволяли, и даже требовали, чтобы они усиливали или ослабляли свою власть сообразно с тем, как это требовалось частным случаем или обстоятельствами. Правило, которым они руководствовались в обыкновенных делах, представляемых пред их трибуналы, выражено в совершенстве спустя несколько лет после события, занимающего нас теперь, Аннеем Галлионом, гуманным проконсулом Ахайи и братом философа Сенеки: «Если бы дело касалось проступка или преступления, то я имел бы основание вести его с вами, иудеи; но если оно возникает из вопросов о словах, именах и вашем законе, то разбирайте его сами; я не хочу быть судьей в таких делах». Хотя римские сановники и устраняли от себя такие вопросы, пока они не касались прав верховной власти, но малейший намек на то, что одно из этих слов или имен или один из этих вопросов другого закона может вредить верховной власти, давал правителю полнейшее право «погрузить свою секиру с быстрою и лютою жестокостью в подозрительную часть политического тела».
Эти общие соображения никогда не должно упускать из виду при чтении отрывочных и часто взаимно несовместимых исторических известий об этом предмете. Они показывают, что крайние взгляды, поддерживаемые новейшими критиками, были защищаемы и в древности противоположными властями — римскою и местною. Но самые веские доказательства находятся на стороне того положения, что в это время все дела, влекшие за собой смертную казнь, были предоставлены римским законом и практикой окончательному решению римского правителя. В таких случаях иудеям принадлежало только исследование дела (cognitio causae). И не может быть сомнения, что власть правителя не ограничивалась в этих случаях одним правом на утверждение и исполнение приговора (executio); он имел еще право на пересмотр (recognitio) дела, по крайней мере в таких случаях, когда хотел воспользоваться этим правом. В отношении к обыкновенным преступлениям — грабежам и убийствам — иудейские начальники могли довольствоваться тем, что предавали виновных суду римского трибунала и дальше не вмешивались в дело. Римский правитель, с другой стороны, мог без всякого противоречия и без дальнейших исследований с своей стороны посылать на крест обыкновенных злодеев, против которых являлись обвинителями туземные власти, уже исследовавшие дело. Но, очевидно, возникало затруднение, когда преступление, составлявшее предмет обвинения, принадлежало к области религии, заключалось в покушении изменить, в качестве пророка или Мессии, церковные учреждения. В таком случае синедрион, опираясь на общее убеждение всех иудеев, без сомнения, удерживал за собою исключительное право суда первой инстанции и старался всеми мерами отклонять всякий пересмотр дела (recognitio) со стороны римской власти или, не обращаясь вовсе к этой власти или ограничивая ее, одним правом утверждать его приговоры. Так думали и должны были думать иудеи; но римский правитель в том случае, если бы такое дело было представлено его суду, мог держаться совсем другого взгляда.