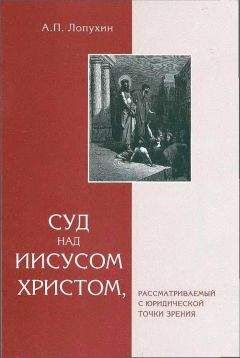Таким образом, мы можем теперь безошибочно определить то преступление, какое выставлено было обвинением. Это — «оскорбление величества», величайшее преступление, по римскому закону, величайшее преступление, какое только могло быть представлено римским воображением, т. е. нападение на верховную власть или верховное величество римского государства [85]. В ранние времена республики название perduellio употреблялось для обозначения измены и восстания, и гражданин, осужденный народом за это преступление, «лишался огня и воды» или подвергался повешению на злосчастном дереве (arbor infelix). Когда закон города Рима распространил свою власть до пределов мира, тогда измена получила смысл нападения на величество миродержавного города, были изданы разные законы для определения этого преступления и правил суда над ним, и главное место между ними занимал закон Юлиев (Lex Julia). По этому закону каждое обвинение в измене, направленное против римского гражданина, должно было излагаться в виде письменного доноса. Гражданин иудейской провинции, само собою разумеется, не пользовался таким покровительством закона. Он, стоя пред прокуратором Кесаря, не имел иной защиты против неправильного употребления неограниченной власти, кроме доводов правосудия.
Распни Его!
Теперь мы переходим к защите. Все евангелия согласно говорят, что Пилат предложил Иисусу один и тот же вопрос в одних и тех же словах: Ты Царь Иудейский? [86], и что после Его утвердительного ответа этот римлянин пришел к парадоксальному заключению, что не находит в Нем никакой вины [87].
В четвертом евангелии мы находим разговор, объясняющий вполне эту кажущуюся парадоксальность. Утвердительный ответ Иисуса поражает своей силой. Иисус, как видно из всех евангелий, употреблял по временам этот сильный способ выражения, и особенно в трудных обстоятельствах Своего служения, или когда Он касался сокровенных «тайн царства», проповеданного Им, или когда подвергались сомнению Его собственные права. Эта особенность в Его образе выражения все более и более усиливалась к концу Его земного поприща. Поэтому мы утверждаем, что рассматриваемый ответ, хотя упоминается только в последнем евангелии, но предполагается необходимо и всеми другими, имеет все внутренние признаки исторической подлинности. Этот разговор происходил в преториуме [88], где Иисус мог быть задержан, пока Пилат толковал с обвинителями о подсудности ему настоящего дела. Теперь Пилат призвал своего Узника во внутреннюю часть претории и предложил ему внезапный вопрос: Ты Царь Иудейский? [89] Иисус отвечал: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне»? [90], и этот ответ выражает собой не желание узнать, что было сказано иудеями в Его отсутствие, а имеет более глубокое значение. Слова его равносильны такой речи: «в каком смысле употребляешь ты это выражение? Если ты говоришь это от себя, — в том смысле, в каком римлянин естественно употребил бы это слово, то я — не царь иудейский. Но если другие говорили тебе это о Мне, если ты имеешь в виду слова еврейских пророков о царе в смысле чаяния всего мира, то они требуют дальнейшего разъяснения». Пилат поспешно отвечает, как следовало отвечать римлянину: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?» [91]. Этими словами Пилат слагал — и не без искусства — бремя объяснения на Обвиняемого; и Тот, который хранил молчание ночью пред синедрионом и не дал никакого ответа даже теперь на приносимые против него ложные обвинения, тотчас отвечал откровенно языческому сановнику, желавшему знать истину об этом деле: «Царство Мое не от мира сего: если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня… но царство Мое не отсюда» [92]. Рассматривая эти достопамятные слова, мы разберем их только с исторической и, в частности, с судебной точки зрения. Какое бы значение ни имели эти слова в других отношениях, по содержанию и по форме они составляют защиту. Хотя они и заключают в себе прикровенное заявление Обвиняемого о своем царском достоинстве, все-таки они выражают желание точнее определить свойства того царства, притязание на которое составляло предмет обвинения. Они, по-видимому, выражают признание, что царство от мира сего было бы законным предметом преследования для наместника кесаря, но отвергают, что царство Иисуса может быть поставлено Ему в вину. Самым важным объяснением этих слов служит известная сцена, когда решался вопрос об уплате подати, когда Иисус, будучи спрошен, как иудейский ревнитель отечества и пророк, о том, позволительно ли давать подать Кесарю или нет, отвечал: покажите мне динарий, и, предложив глубоко знаменательный вопрос об изображении и надписи, отчеканенных на нем, заключил рассуждение словами: «и так отдавайте, Кесарево Кесарю, а Божие Богу» [93]. Это обстоятельство, в связи со всей настоящей историей, удостоверяет нас в том, что нападение на римскую власть не входило в план Его царства, равно как и в план христианства. Но это решительное изречение, сказанное Пилату (как и прежнее решение Его относительно дани Кесарю), показывало, что столкновение между царством, которое Иисус приготовлялся признать Своим собственным, и между тем великим царством от мира сего [94], представителем которого являлся теперь Его судья, не было неизбежно по существу, хотя в действительности оно с большою вероятностью могло произойти. Эти слова не имели бы значения, если не признать, что ими устанавливается отдельность областей, при которой возможно каждой власти ограничить себя и, ограничив себя таким образом, избежать взаимного столкновения.
Положительно описано Христом только одно из двух царств, и это царство определено вообще как царство от мира сего; такое определение пояснено указанием на то, что в каждом таком царстве властитель может защитить себя вооруженной силой своих подданных. Другое царство определено только посредством отрицания у него этих признаков. На Пилата, как показывают последствия, эти слова Христа произвели впечатление и, может быть, убедили его в том, что Обвиняемый невиновен ни в каком заговоре против Рима. И тем не менее Иисус говорил о царстве — царстве в сем мире, хотя и не от мира сего [95], и Его слова отречения от царства были в существе дела царственнее, чем все царственные изречения, когда либо слышанные этим римлянином. С истинным тактом судьи правитель касается затем того самого пункта, который следовало вывести из отрицательной темноты на степень ясного утверждения.
Итак, Ты Царь? [96] — спросил он Узника, царство которого было не от мира сего. И как прежде на заклинание первосвященника, так и теперь на вопрос представителя земного величия был дан ответ, совершивший решительный переворот в мировой истории: Ты говоришь, что Я Царь [97]. Тот, кто говорил так с римским правителем, знал, что этими словами Он сам возводил себя на крест и что последующие немногие часы будут последними в Его полной судеб жизни. И эта мысль представлялась Его уму, ибо Он намеренно прибавил: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине» [98]. Какой бы иной смысл ни заключался в словах столь великих, это свидетельство об истине, конечно, заключало уже в себе то свидетельство, которое раньше дано было Им, когда Он «засвидетельствовал пред Понтием Пилатом благое исповедание» о существовании царства истинного и реального, хотя и не от мира сего. Но это прибавление к прежним словам имело более глубокое значение, чем одно утверждение существования царства духовного, отдельного от мирского. Оно провозглашало существование того, что служит основанием всякой человеческой добродетели и справедливости, но что в последние века сделалось чуждым для римского слуха, — существование вечного мира истины вне человека, всеобщей божественной системы вещей, стоящей выше всякого местного или народного предания и, конечно, выше всех человеческих верований и желаний. Над этой объективной истиной люди не имеют никакой власти: их высшее преимущество состоит в том, чтобы признавать и исповедовать ее. И ее признает тот, кто уже имеет родственное влечение к этой средоточной (центральной) истине, — всякий, кто от истины. Последние слова Того, Кто заявлял теперь право на достоинство как свидетеля, так и царя этого великого мира истины, были: «Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» [99].
«Пилат сказал ему в ответ: что есть истина?» [100]. Этот бессодержательный вопрос, полусаркастический, полупрезрительный, но всецело скептический, мы разъясним впоследствии, а теперь последуем за действиями судьи [101]. Не дождавшись ответа на случайно представившийся ему вопрос, Пилат снова обращается к обвинению и Обвиняемому. Все повествования согласны между собой в том, что Пилат составил и высказал такое заключение, что не находит в Обвиняемом никакой вины [102]. Последнее евангелие раздельно говорит, что публичное выражение этого убеждения сделано было Пилатом именно на том самом пункте в разговоре и защите, до которого мы достигли теперь. Как бы то ни было, это была единственная защита, которую, как известно, представил Обвиняемый во все время суда над Ним; и Пилат тотчас же вышел из претории и объявил свой приговор, быть может, даже с судейского седалища. Но это изречение, как оказалось впоследствии, было только первым шагом в том непрестанно затем ускоряющемся движении слабости, которое так хорошо известно в свете, и движении, которое начинается нерешительностью и мягкостью, потом проходит попеременно все последующие степени самовосхваления и желания подслужиться, — убеждения, колебания, протеста и компромисса, суеверного страха, борьбы с совестью, осторожной двуличности и наконец достигает полной нравственной трусости. Этот римлянин остался навеки типом неправедного судьи, решающего дела «вопреки своему лучшему убеждению». Нам нет надобности долго останавливаться на некоторых из пунктов этого евангельского повествования. То вполне верное истории обстоятельство, что судья, схватив на лету употребление о Галилее и удостоверившись, что Обвиняемый был галилеянин (значит, принадлежал к области Иродовой), послал его к Ироду, может быть отмечено лишь мимоходом. Здесь употреблено слово ανεπεμφεν (remisit, возвратил), которое, по-видимому, служило специальным техническим термином, обозначавшим возвращение обвиняемого к тому суду, которому он собственно подлежит, что произошло и здесь, когда Спаситель был переслан от forum apprehensionis (суда по месту лишения свободы) к forum originis (суду по месту происхождения). Уклонение Ирода от суда над Иисусом было сколько благоразумно, столько же и вежливо, если припомнить пункты обвинения. Не только римский гражданин, но даже гражданин провинции, обвиняемый в оскорблении величества, должен был быть судим пред судом Кесаревым [103]. Идумейский «лис» (т. е. Ирод), боявшийся когтей льва, очень любезно обменялся при этом вежливостями с наместником этого льва. При втором появлении Подсудимого пред трибуналом правителя очень ясно стали обнаруживаться все более и более возрастающая слабость судьи и усиленное давление на него со стороны обвинителей. Утреннее сообщение жены [104] тревожит его совесть, но не очищает его сердца. Пилат соглашался теперь, наказав Его, отпустить [105], т. е. истерзать невинного человека тяжким римским бичом! Иудейские обвинители отвергают эту сделку; и Пилат (весьма характерная черта в нем), решив уже, по-видимому, послать Его на крест, пробует подействовать на сострадание обвинителей и выгородить себя из дела. Он омывает свои руки и произносит вполне праздные слова: «Не повинен я в крови Праведника сего» [106]. После бичевания три евангелиста упоминают только о поруганиях, нанесенных грубыми римскими воинами Иисусу, который отдан был в их власть, как иудейский изменник их императору. Но последний евангелист вставляет ряд событий, которые и теперь, как прежде, он описывает с поразительной живостью и с неотразимой правдивостью. Он один упоминает об изречении — се человек [107], которым пытался тронуть иудейскую толпу прокуратор, испытывавший тяжелую внутреннюю борьбу и остававшийся «неправо справедливым» вследствие своей «неверующей веры». Он один также упоминает об ответе обвинителей: «мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божьим» [108], — ответе, вполне согласном с тем повествованием о еврейском суде, которое находится у трех синоптиков, но опущено у Иоанна. Он упоминает о неожиданном, но весьма естественном действии этого заявления на правителя, уже находившегося под сильным впечатлением прежних выражений «Царя, пришедшего в мир» [109]. «Откуда Ты»? [110] — спрашивает он почти с трепетом. Но еще с первого мгновения, как началось его колебание, Иисус перестал отвечать ему. Он молчит и теперь. И Пилат именно в это время, когда он, по словам евангелиста, больше убоялся [111], усвояет тот грубый тон, который, по словам менее точных светских историков, был его характеристическою принадлежностью: «мне ли не отвечаешь: не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть отпустить Тебя» [112], Иисус прерывает молчание последним ответным словом, имеющим для нас высокую важность: «Ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе» [113].