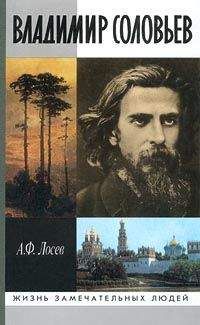«Я разумею взгляд, по которому человечество относится к племенам и народам, его составляющим, не как род к видам, а как целое к частям‚ как реальный и живой организм к своим органам или членам, жизнь которых существенно и необходимо определяется жизнью всего тела. Понятие тела не есть пустое отвлечение от представлений о его членах, и точно так же тело не может мыслиться и как простая совокупность или агрегат своих членов; следовательно, отношение родового к видовому неприменимо здесь ни в одном из двух значений, различаемых нашим автором. А между тем идея человечества как живого целого (а не как отвлеченного понятия и не как агрегата) настолько вошла, еще с начала христианства, в духовные инстинкты мыслящих людей, что от этой идеи никак не мог отделаться и сам Данилевский, называющий в одном месте свои "культурно–исторические типы" живыми и деятельными органами человечества («Россия и Европа», 1871, с. 129)» (V, 131).
Н. Я. Данилевский — консерватор и, как доказывает Вл. Соловьев, часто даже реакционер. Но та теория культурного типа, которую Вл. Соловьев здесь проводит, несомненно, заставляет нас над ней задуматься.
Лучшее выражение всех этих материалов по национальному вопросу мы находим уже в предисловии к первому выпуску этого собрания, где говорится как о «высшем национальном призвании России», ее «духовном освобождении», так и о невозможности «нашей внеевропейской или противоевропейской преднамеренной и искусственной самобытности», которую философ называет «лишь пустой претензией» (V, 5). По убеждению Вл. Соловьева, «все существенные вопросы социальной и политической жизни» надо решать по–христиански. И поэтому «историческая задача России состоит именно в универсально–жизненном осуществлении христианства» (V, 157).
Вообще все это собрание статей посвящено критике славянофильства, под которым Вл. Соловьев понимает учение об эгоистическом отделении русского народа от всех других народов.
На эту критику ответил К. Леонтьев («Гражданин», 1888) обстоятельным анализом взглядов и Данилевского (к этому времени уже покойного), и самого Вл. Соловьева. Наличие славянского культурно–исторического типа для К. Леонтьева несомненно, как и вполне правомерна смена разных народных типов на мировой исторической арене. По К. Леонтьеву, критика Вл. Соловьева обоснована его собственными взглядами на единство христианской церкви Запада и Востока, а значит, и на преодоление национальных и культурно–исторических различий народов Европы и славянской общности. Для К. Леонтьева совершенно неприемлема квалификация теории Данилевского как «ползучей» (по терминологии Вл. Соловьева, то есть связанной с основами того общества, в котором она появилась, в отличие от «крылатых» теорий, рассчитанных на будущее). Идеи Данилевского в книге «Россия и Европа», этом «катехизисе славянофильства», столь же крылаты, как и утопия Платона, да и как мысли самого Вл. Соловьева об установлении всемирной теократии под владычеством Рима. Таким образом, К. Леонтьев приходит к выводу о существовании родства крылатых идей и Данилевского и Вл. Соловьева, которые предполагают не обособленные, а всемирные задачи, чему способствует также обличение современной буржуазной Европы в трудах этих обоих писателей.
Необходимо заметить, что вся эта разрушительная критика славянофильских теорий сопровождается у Вл. Соловьева весьма уважительным отношением к основным убеждениям славянофилов, с которыми он проницательно согласен как с христианскими, но применение которых в конкретной политике он критикует как вполне языческое.
В статье «Русский национальный идеал» (1891) Вл. Соловьев приветствует мнение Н. Я. Грота (в статье «Еще о задачах журнала» в «Вопросах философии и психологии», ГѴ, с. 1—6) по поводу его решительного осуждения «начала национальной исключительности» и защиты «истинно национальной русской идеи, широкой и всеобъемлющей» (V, 416). Вл. Соловьев подчеркивает здесь только необходимость «трудиться над освобождением России от явных общественных неправд, от прямых противоречий христианскому началу» (V, 425).
5. «Славянофильство и его вырождение» (1889) и некоторые другие родственные материалы. Из других, тоже весьма ярких статей, входящих в собрание «Национальный вопрос в России», следует обратить внимание на ту статью, где тоже в форме убийственной и местами ошеломляющей критики рассматривается постепенное развитие и гибель славянофильства как цельной националистической теории. Оказывается, славянофильство имело свою историю, которая была не столько историей развития, сколько историей религиозно–философского самоубийства.
Вначале, особенно у Хомякова, славянофильство не столько отрицало Запад, сколько фантастически идеализировало все русское. Настоящей критики Запада здесь даже и не было. Это были западно образованные люди, которые даже критиковали тогдашнюю российскую действительность не хуже западников. Однако в дальнейшем в сознании славянофилов Россия превратилась в идеал, который не подлежит никакой критике, хотя религиозная мысль все еще оставалась, правда, лишенная критической заостренности. Благодаря этому обстоятельству церковь проповедовалась уже не наравне с государством, но в своей подчиненности обезбоженному государству. Это была уже не хомяковская философия, а катковская. И наконец, начиная с 50–х годов славянофилы в открытую стали проповедовать, что церковь является святой не сама по себе, а только потому, что она есть достояние русского народа.
Вся эта статья тоже написана с таким философско–политическим пафосом, что ее даже трудно излагать в обычном виде. Такие статьи может понимать только такой их читатель, который сумеет в непосредственной форме воспринять и пережить всю эту политическую, историко–религиозную и философскую патетику. Мы могли бы привести лишь слова самого Вл. Соловьева и предложить самому читателю вникнуть в этот удивительный стиль соловьевского рассуждения.
«Поклонение своему народу как преимущественному носителю вселенской правды; затем поклонение ему как стихийной силе, независимо от вселенской правды; наконец, поклонение тем национальным односторонностям и историческим аномалиям, которые отделяют народ от образованного человечества, поклонение своему народу с прямым отрицанием самой идеи вселенской правды — вот три постепенные фазы нашего национализма, последовательно представляемые славянофилами, Катковым и новейшими обскурантами. Первые в своем учении были чистыми фантазерами, второй был реалист с фантазией, последние, наконец, — реалисты без всякой фантазии, но также и без всякого стыда».
«Увлекаться фантазиями могут самые умные и почтенные люди, а их близкие по личному чувству, естественно, дорожат увлечениями своих друзей и наставников. Но для того, чтобы целая партия или школа (не говоря уже о всем обществе или о всем народе) постоянно закрывала глаза на действительность и вопреки самой полной очевидности пребывала в уверенности, что грязный кабак есть великолепный дворец, нужно, чтобы эта партия или школа состояла либо из умалишенных, либо из шарлатанов» (V, 228).
Вл. Соловьева часто называли консерватором или даже реакционером. Но, не говоря уже обо всем прочем, даже приведенные сейчас два отрывка свидетельствуют о том, что подобного рода квалификация национальных взглядов Вл. Соловьева может принадлежать только тем, кто его не читал. Какой же это реакционер, если он обзывает ведущих идеологов тогдашнего государства и теоретиков народности «умалишенными» и «шарлатанами»? У Вл. Соловьева не только просто отрицательное отношение к тогдашнему, да и к прежнему русскому правительству. Можно сказать, что это отношение прямо‑таки озлобленное. Только христианская убежденность и принципиальное православие помешали ему стать открытым бунтовщиком и революционером в самом точном и вовсе не переносном смысле слова. Даже из профессиональных революционеров и теоретиков революции мало кто считал тогдашнее правительство сбродом умалишенных или шайкой шарлатанов. Конечно, эта смесь принципиальнейшего православия и самого крайнего политического радикализма была большой редкостью; и еще нужно тщательно исследовать, как была возможна такая смесь у Вл. Соловьева. Но так или иначе, а она все‑таки была, и выражал ее философ в небывало патетической и учено–исторической форме.
Большое впечатление вызывает также статья «Несколько слов в защиту Петра Великого» (1888). Вероятно, будет правильно сказать, что здесь мы находим не только озлобленное отношение к византийско–московскому православию, но и прямое издевательство над ним. Вл. Соловьев доказывает здесь, что такого рода православие есть прямое холопство перед государственной властью, так что упразднение патриаршества при Петре I было делом весьма полезным для самой же церкви: «В московском государстве, как прежде в Византии, религиозные и нравственные начала были совсем исключены из области политических и социальных отношений. В этой области на место вселенского христианского идеала явились чисто языческие понятия и чувства. Собственной нации и национальному государству было возвращено абсолютное значение, отнятое у них христианством. В московской России, вследствие крайнего невежества и разобщения с цивилизованным миром, этого рода реакция против христианского универсализма проявилась во всей силе. Признавая себя единственным христианским народом и государством, а всех прочих считая «погаными нехристями», наши предки, сами не подозревая того, отрекались от самой сущности христианства» (V, 165). Эта статья написана Вл. Соловьевым настолько красноречиво, убедительно и бесстрашно, что даже критически настроенный читатель не сразу может заметить то преувеличение, что после учреждения Святейшего Синода церковь оказалась еще в более холопском состоянии, чем то было в допетровской Руси.