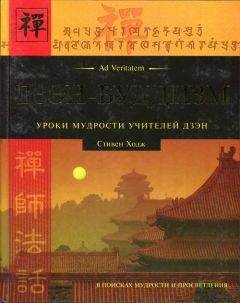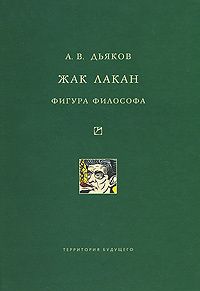Ад. — Я боюсь, как бы тут не получилось так же, как с тем, что я сказал о человеке, пожелавшем узнать, что такое "ходить". В самом деле, я не нахожу, что искусство птицелова показано здесь целиком.
Авг. — Мне не сложно избавить тебя от твоих опасений. Я добавлю: если наш наблюдатель достаточно сообразителен, чтобы на основе увиденного составить себе полное представление об этом искусстве. Для нашего доказательства на самом деле вполне достаточно, чтобы мы могли научить без знаков некоторым, если не всем, занятиям, по крайней мере, некоторых людей.
Ад. — Я могу в свою очередь добавить, что если этот человек действительно умен, он вполне поймет и что такое "ходить", когда ему покажет ходьбу, сделав несколько шагов. Авг. — С удовольствием позволю тебе это сделать. Как ты видишь, каждый из нас установил, что не прибегая к знакам некоторые люди могли бы быть научены определенным вешам. Такие замечания, в самом деле, убеждают нас, что не одна-две вещи, но множество вещей предстают разуму как нечто такое, что может быть показано самопосебе, без всякихзнаков. Не говоряужомногочисленных зрелищах, где вселюди показывают сами вещи.
На что можно было бы ответить, что, во всяком случае, то, что может быть показано без знаков, уже является значимым, поскольку лишь в недрах универсума, где уже есть субъекты, действия птицелова получают смысл.
Проницательное замечание отца Бернарта избавляет меня от необходимости напоминать вам, что искусство птицелова может существовать лишь в мире, уже структурированном языком. Нет необходимости останавливаться на этом.
Для Августина важно не прийти к превосходству вещей над знаками, а пробудить сомнения в преимуществе знаков в такойпреимущественно речевой функции, как научение. Вот где возникает зазор между signum и verbum, nomen, который в качестве инструмента речи является и инструментом научения.
Августин апеллирует к тому же измерению, что и другие психологи. Ведь психологи являются людьми более духовными — в техническом, религиозном смысле слова — чем принято о них думать. Как и Августин, они верят в озарение, разумность. Вот что, занимаясь психологией животного, они обозначают именем инстинкта, Eriebnis — позволю себе мимоходом заметить вам.
Именно потому, что Августин хочет вовлечь нас в измерение истины как таковой, он оставляет лингвистическую область и впадает в заблуждение, о котором я только что говорил. С момента возникновения речи ее движение происходит в измерении истины. Однако речи не известно, что создает истину именно она. Святому Августину это также не известно, поэтомуто он и пытается добраться до истины как таковой, найти ее в озарении. Отсюда и происходит полное обращение перспективы.
Безусловно, говорит он, знаки, в конечном итоге, совершенно бессильны, поскольку мы можем распознать их ценность в качестве знаков и знаем, что они являются словами, лишь тогда, когда нам известно, что они обозначают в языке при их конкретном употреблении. Благодаря чему ему становится легко провести диалектический поворот и сказать, что используя взаимно определяющие друг друга знаки, мы никогда ничего не узнаем. Либо мы уже знаем истину, о которой идет речь, и следовательно, не знаки нам ее сообщают, либо мы ее не знаем и не можем постичь знаки, к ней относящиеся.
Он идет дальше и изумительно намечает основание диалектики истины, лежащее в самом сердце аналитического открытия. Перед лицом слышимых нами слов, говорит он, мы попадаем в весьма парадоксальную ситуацию — мы не знаем, истинны они или нет; следует ли нам примкнуть к их правде или нет; принять их, отвергнуть или же усомниться в них. Ведь значение всего, что было высказано, определяется посредством отношения к истине.
Речь, независимо от того, учат ли ей или учит она сама, лежит, таким образом, в регистре обознания, ошибки, обмана, лжи. Августин заходит весьма далеко в своем исследовании, ведь речьпредстает у него под знаком двусмысленности, и не только семантической, но и субъективной. Он допускает, что и сам субъект, говорящий нам нечто, зачастую не знает, что именно он нам говорит, и говорит нам в большей или меньшей степени то, чего сказать не хотел. Даже вопрос о ляпсусе присутствует в исследовании Августина.
П. О. Бернарт: — Однако он не утверждает, будто ляпсус может нечто сказать.
Лакан: — Совершенно верно, поскольку он рассматривает его как значащий элемент, но не говорит, что он означает. Ляпсус для него состоит в том, что субъект, пользуясь знаком, нечаянно говорит нечто другое — aliud — чем то, что он хочет сказать. Другой показательный пример двусмысленности дискурса дает эпикуреец. Эпикуреец, рассуждая о функции истины, приводит аргументы, которые, как ему кажется, убедительно им опровергнуты. Однако аргументы эти несут в себе истину столь весомую, что укрепляют у слушателя убеждение, в точности обратное тому, что хотел внушить эпикуреец. Кроме того, вам прекрасно известно, как замаскированный дискурс, дискурс гонимой речи как сказал небезызвестный Лео Стросс — при режиме политического давления, например, умеет высказать свои подлинные мысли под видом спора с ними.
Короче говоря, именно вокруг трех данных полюсов ошибки, обознания и двусмысленности речи — строит Августин свою диалектику. Что ж, именно в свете неспособности знаков научить — используем это выражение отца Бернарта — мы и попытаемся в следующий раз освоить диалектику созидания истины речью.
В этом треножнике вы без труда узнаете три главные симптоматические функции, выведенные Фрейдом в раскрытии смысла на первый план — Vemeinung, Verdidstung, Verdrangung. Ведь то, что говорит в человеке, выходит далеко за пределы речи и пронизывает его сны, его бытие и даже его организм.
23 июня 1954 года.
XXI. Истина возникает из осознания
Несостоявшееся=удавшееся. Речь по ту сторону дискурса. Слово вылетело у меня из головы. Сон о монографии по ботанике. Желание.
Сегодня ваш круг, постоянству которого вы никогда не изменяли, все же несколько поредел. А в конце курса уже мне придется с вами расстаться.
Мы начали с технических правил, как они были впервые выражены в "Работах по технике психоанализа", прекрасно сформулированных и в то же время крайне неопределенных. Затем, изучение природы субъекта привело нас к тому, вокруг чего вращается наше исследование с середины последнего семестра — к структуре переноса.
Чтобы определить относящиеся сюда вопросы, нужно исходить из того центрального момента, к которому подвело нас наше диалектическое исследование, а именно, что перенос не возможно понять как дуальное, воображаемое, отношение; двигателем же его прогресса является речь.
Задействовать в работе иллюзорную проекцию на аналитического партнера какой-либо из основополагающих связей субъекта, объектное отношение, отношение между переносом и контр-переносом — все это, оставаясь в рамках twobodiespsychology, является неадекватным. И не только теоретические дедукции свидетельствуют об этом, но и конкретные свидетельства цитированных мной авторов. Помните, что говорит нам Балинт о состоянии, означающем для него конец анализа, перед нами не что иное, как нарциссическое отношение.
Итак, мы показали очевидную необходимость третьего условия, единственно которое и позволяет представить себе зеркальный перенос и которое является речью.
Несмотря на все усилия, направленные на то, чтобы забыть о речи или свести ее к роли средства, анализ как таковой является техникой речи, и речь служит средой, в которой происходит движение анализа. Именно по отношению к функции речи можно провести различие одних пружин анализа от других, раскрыть их собственный смысл и их точное место. Все последующее обучение лишь будет вновь и вновь возвращать нас к этой истине, в различных ее видах.
Наша последняя встреча обогатила нас обсуждением фундаментальной работы святого Августина о значении речи.
Систему святого Августина можно назвать диалектической. Она не заняла своего места в той системе наук, которая сложилась всего несколько веков назад. Однако его точка зрения отнюдь не чужда нашей позиции, позиции лингвистической. Напротив, мы можем констатировать, что гораздо раньше появления лингвистики в кругозоре современной науки некто, размышляющий об искусстве речи, т. е. говорящий о нем, был подведен к проблеме, заново открытой современным прогрессом этой науки.
Постановка такой проблемы исходит из вопроса, каким образом речь соотносится со значением, как знак соотносится с тем, что он обозначает? В самом деле, функция знака может быть постигнута в том, что всякий раз один знак отсылает к другому. Почему? Потому что система знаков, в их конкретном, hieetnunc, установлении, сама по себе образует целое. То есть такая система устанавливает некоторый порядок, выйти из которого невозможно. Необходимо, конечно, чтобы выход все же существовал, иначе бы этот порядок был бессмысленен.