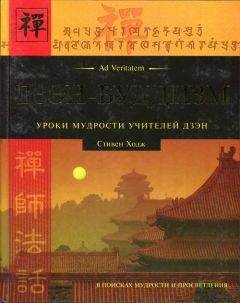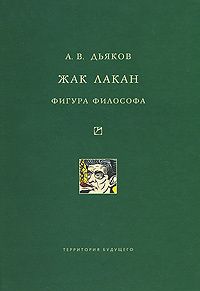Фрейд не всегда определял то, что называют теперь интерпретацией защит (хотя это и не самое подходящее выражение). Однако в конечном счете, интерпретация содержания играет у него роль интерпретации защит.
И господин Z был вполне прав, упомянув об этом. Это то, чем данная интерпретация является для вас, Я постараюсь показать вам, какими окольными путями проявляется опасность принуждения субъекта посредством вмешательства аналитика. Эта опасность гораздо существеннее в так называемых современных техниках — как если бы речь здесь шла о шахматах, а не об анализе — нежели у Фрейда. Я не думаю, что теоретическое выдвижение понятия сопротивления может служить предлогом для формулирования в отношении Фрейда того обвинения, которое совершенно противоречит освобождающему эффекту его творчества и терапевтического воздействия.
Я не собираюсь порицать Вас, господин Z, за ваши склонности. Но склонности эти у вас налицо. Безусловно, нужно сохранять здравый критический ум даже имея дело с выдающимися работами, но в той форме, как это делаете вы, можно лишь сгустить тайну, а вовсе не пролить свет на возникающие вопросы.
20 и 27 января 1954 года.
III. Сопротивление и защиты
Свидетельство Анни Райх. Отэгокэго.
Реальность и фантазм о травме.
История, пережитое, пережитое вновь.
Сперва я хотел бы поблагодарить Маннони и Анзье за их выступления, где интересно были представлены животрепещущие стороны изучаемых проблем. Сообщения их отмечены остротой и даже полемичностью, вполне соответствующими уже сформировавшемуся мышлению, но лишь недавно вступившему в область если не применения анализа, то его практики. И это лишь оживляет обсуждение.
Наши коллеги затронули весьма деликатный вопрос, тем более деликатный, что, как я уже отмечал по ходу докладов, он вполне актуален для некоторых из нас.
Имплицитно в адрес Фрейда был высказан упрек в авторитаризме, как полагают, обусловившем его метод. Это парадокс. Если нечто и составляет оригинальность аналитического лечения, так это то, что с самого начала был почувствован проблематизм отношения субъекта к себе самому. Находка, в собственном смысле слова, открытие психоанализа, понимаемое в соответствии с тем, что я излагал вам в начале года, — состоит в соединении такого отношения со смыслом симптомов.
Отказ субъекта от этого смысла как раз и является его проблемой. Данный смысл не столько должен быть открыт пациенту, сколько должен быть принят им. Таким образом, психоанализ не только оказывается техникой, уважающей человеческую личность — как мы это сегодня понимаем, после того, как заметили, что это имело и свою цену — но и все его действие зависит от подобного уважения. Поэтому парадоксальными кажутся слова о том, что аналитическая техника в первую очередь имеетсвоей целью силой преодолеть сопротивление субъекта. Хотя вообще данная проблема, конечно, существует.
В самом деле, не знаем ли мы, что сегодня такой аналитик ни шага не сделает в лечении, не поучая своих учеников постоянно задавать вопрос относительно пациента: "Что еще он мог изобрести в качестве защиты?"
Такое восприятие не является по сути детективным, в смысле обнаружения чего-либо скрытого, — данный термин более пригоден для обозначения сомнительных фаз анализа в его архаические периоды. Скорее, речь здесь идет о попытке навсегда понять, какое положение мог занять субъект, какую находку он мог сделать, чтобы оказаться в позиции, где все наши слова окажутся недейственными. Было бы неверным сказать, что они вменяют в вину субъекту некоторую недобросовестность. Поскольку такая недобросовестность слишком связано с причастностью порядка знания, совершенно чуждого такому состоянию ума. Подобное замечание является пока слишком проницательным. Здесь присутствует мысль о фундаментальной для субъекта злой воле. Все эти черты, я думаю, позволяют мне квалифицировать такой аналитический стиль как инквизиторский.
Прежде чем приступить к нашей теме, я хотел бы взять в качестве примера статью Анни Райх о контр-переносе, вышедшую в первом номере InternationaljournalofPsycho-analysis за 1951 год.
Данная статья опирается на определенное практическое направление психоанализа, весьма глубоко укоренившееся в некоторой части английской школы. Исходным, как вы знаете, тут является положение, что любой анализ должен разворачиваться в Ыс etnunc. Все должно происходить в непосредственном контакте с намерениями субъекта здесь и теперь, в рамках сеанса. Безусловно, признается и то, что при этом мельком встречаются и обрывки прошлого, но считается, что, в конечном итоге, именно в опыте, испытании — я сказал бы даже, в испытывании психологической силы — внутри лечения разворачивается вся деятельность аналитика.
Вопрос именно в этом — в деятельности аналитика. Каким образом он действует? Что из его действий имеет значение?
Для упомянутых авторов, для Анни Райх ничего, кроме признания субъектом Ыс etnunc намерений его дискурса, не принимается в расчет. А данные намерения имеют ценность лишь в их значении hieetnunc для настоящей беседы. Пациент может описывать себя в перепалке со своим бакалейщиком или парикмахером — в реальности же он осыпает бранью персонажа, к которому он обращается, т. е. аналитика.
Здесь есть нечто правильное. И малая толика опыта супружеской жизни учит нас узнавать содержащиеся требования в том факте, что один из супругов сообщает другому о досадившем ему событий дня, а не нечто противоположное. Однако тут же может присутствовать и забота проинформировать другого человека о каком-либо важном событии, о котором важно знать. И то, и другое верно, поэтому нужно понять, о чем в конкретном случае идет речь.
Вещи, как это показывает нам история, сообщаемая Анни Райх, могут иметь и более глубокие корни. Некоторые моменты данной истории неясны, но все наводит нас на мысль, что речь идет о дидактическом анализе или, во всяком случае, об анализе человека, поле деятельности которого близко психоанализу.
Анализируемому пришлось сделать сообщение на радио по вопросу, живо интересовавшему и самого аналитика — и такое иногда случается. Оказывается, что это сообщение на радио он сделал несколькими днями после смерти своей матери. Соответственно, все указывает на то, что мать, таким образом, играет важнейшую роль в фиксациях пациента. Он, без сомнения, чрезвычайно взволнован ее смертью, но тем не менее выполняет свои обязательства совершенно блестяще. На следующем сеансе он оказывается в состоянии ступора, граничащего с помутнением рассудка. Он не только не может выйти из этого состояния, но и все, что он говорит удивляет своей несогласованностью. Аналитик дает смелую интерпретацию: "Вы пребываете в таком состоянии, поскольку думаете, что я завидую успеху вашего радиовыступпения по тому вопросу, который, как вы знаете, имеет для меня первостепенный интерес". Вот как!
Продолжение наблюдения показывает, что субъекту потребовалось не менее года чтобы выправиться после этой интерпретации-шока, которая не была лишена определенного эффекта, поскольку пациент тотчас же пришел в себя.
Итак, вы видите, что сам по себе факт выхода субъекта из полубессознательного состояния вследствие вмешательства аналитика вовсе не доказывает, что это вмешательство было эффективным в собственно терапевтическом смысле, или, точнее, что оно было истинным в анализе. Напротив.
Анни Райх восстановила субъекта в смысле единства его собственного Я. Из смятения он резко вышел, сказав себе — Нашелся человек, который напомнил мне, что, в самом деле, человек человеку волк и пора бы спуститься с небес на землю' И он вновь возвращается к жизни, вновь оживляется — эффект оказывается незамедлительным. В аналитическом опыте никак нельзя рассматривать в качестве доказательства справедливости интерпретации смену субъектом стиля. Я полагаю, что доказательством справедливости интерпретации является лишь сообщение субъектом подтверждающего материала. Впрочем, на этом стоит остановиться.
По истечении года субъект замечает, что его состояние смятения было связано с оборачиванием его реакции траура, который он не мог преодолеть иначе чем изменив его направленность. Тут я отсылаю вас к психологии траура, депрессивный аспект которого достаточно известен многим из вас.
В самом деле, сообщение по радио было сделано в соответствии с совершенно особой формой речи, поскольку адресована она толпе невидимых слушателей невидимым же говорящим. Можно сказать, что в воображении говорящего эта речь была адресована не невольным ее слушателям, но точно так же всем вообще — как живым, так и мертвым. Таким образом, субъект находился в противоречивом положении — он мог сожалеть, что мать не способна быть свидетелем его успеха, но вместе с тем, возможно, нечто в дискурсе, адресованном невидимым слушателям, было предназначено именно ей.