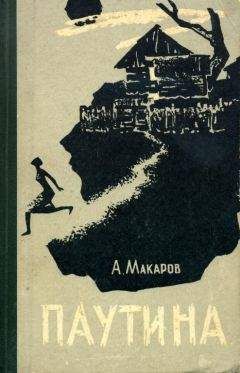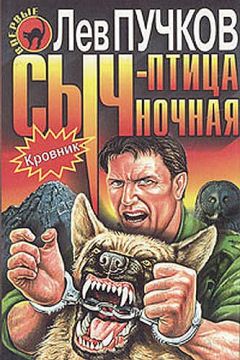— Понимаю-с…
— Не лишнее ли-с? — ядовито передразнила Минодора, дернувшись всем своим крупным телом. — Много понимаешь, только на горшок не просишься!
Она посопела над блюдцем с чаем и продолжала:
— И вот еще чего, господин писарь, давно хочу сказать, да все забываю, про Платонидку. Ты давай-ка перестань с ней бобы перекатывать. Сам ни черта не делаешь, и ее от дела отрываешь. Просто удивление — соберутся мыт да запор и спорят, шары на лоб, где и чего говорил какой-то Христос про большевиков!.. Два клейменых да меченых!.. Будя. Заставь эту госпожу вязать носки да варежки, работать заставь. На ее херувимские лестовки да ладанки мне на…, тьфу, чуть за столом не ляпнула… начихать мне на них, вот что! Пускай в другой обители их шьет-вышивает, а мне носки да варежки нужны. Если отнекиваться станет, мол, я-ста да мы-ста, проповедница да наставница, — припугни: дескать, Минодора собирается жалобиться пресвитеру за Лизку Юркову… Сука кособокая, все было приглажено через трое рук, только бери бабу да крести, а она поковыляла. Жаба! Уж это ли не подарок муженьку-то ее был; так на тебе, упустила, ведьма. Нарочно я готовила этот подарок Кольке, храброму-то воину. Я бы из этой коммунистки в своей обители сейчас веревки вила, лу-у-учину бы щепала… Ы-ых, хромая гадина, сорвала!.. Ты гляди у меня с этой Платонидкой, душ-шу выну!
Минодора ударила ладонью по столу. С дребезгом подскочила посуда. Подпрыгнул на стуле и Прохор Петрович. Он и не предполагал, что неудача Платониды с обращением Лизаветы Юрковой так глубоко ранила Минодору. По-стариковски растерянный, Коровин стоял, держась за спинку стула, как стоял когда-то перед рассвирепевшим исправником, и урывками, чтобы не заметила дочь, прожевывал пищу. «Доберусь я до этой Платониды, — думал он, видя, как одевающаяся Минодора пошвыривает одежду. — Надо же, как расстроилась!»
От Минодоры так и пыхало жаром, когда она проходила мимо, старика от вешалки к зеркалу и от зеркала к столику, который они называли конторкой, потому что на нем лежали документы колхозной кладовщицы. Наголову выше отца, Минодора отличалась стройностью гибкого тела и белизною лица — она с детства избегала загара. Но самой яркой чертой ее неблекнущей наружности оставались будто искусно вылепленный нос и девичья припухлость губ чуть выгнутого по-кошачьи рта. Красоту лица несколько скрадывали широковатый мужской подбородок и мраморно-холодный блеск серых глаз. При первом знакомстве ей никто не давал больше тридцати пяти-тридцати семи лет. Одеваться в платья ярких расцветок (даже на работу она не ходила в темном и заношенном) было ее пристрастием, это резко выделяло кладовщицу среди рядовых колхозниц. Но яркие платья, модельная обувь, надушенные косы, а иногда и другая парфюмерия играли еще и роль превосходной маскировки: кто заподозрит в сектантстве этакую модницу?
Взяв конторскую книгу, она погрозила отцу пальцем:
— Чтобы все было как сказано! — и вышла, крепко стукнув дверью.
— Тигрица, — с гордостью прошептал Коровин. — Жалко, внуков нет; тринадцатого апостола, видно, не ей родить!
Однако с уходом дочери старик вздохнул свободней. Он не боялся ее крутого нрава; наоборот, был доволен, что дочь выросла такой и в обиду себя никому не даст, но страдал, когда Минодора безжалостно глумилась над ним самим или, рассвирепев, начинала откровенно богохульствовать. Эти печальные для него явления Прохор Петрович приписывал каждодневному общению дочери с безбожниками и надеялся, что с годами ее заблуждения в ересях пройдут. «Не согрешивый да не спасется», — частенько рассуждал он.
Старик покончил с чаепитием и принялся убирать со стола. И это он старался делать тщательно, аккуратно, словно в прежнем своем волостном правлении готовился к встрече самого губернатора. Начисто перетерев посуду, расставил ее в стеклянной горке, будто в витрине магазина, цветочками наружу. Плотно прикрыв сахарницы с медом и вареньем, отнес их в подполье и бережно, точно стеклянную, прикрыл за собой западню. Мягкой тряпочкой вытер стол и, пригнувшись, оглядел на свет клеенку — не заметно ли где крох и капелек. Затем он направился к Минодориной постели, чтобы прибрать и ее.
Прохор Коровин всегда гордился своей отменной неторопливостью и чистотою в делах. За двадцать два года писарской деятельности он принял от мужиков восемьсот сорок четыре взятки — аккуратный старик все подсчитал, — но ни разу не поделился добычей ни с волостным старшиной, ни с урядником. С неменьшим тщанием Коровин обсчитывал получавших пособие многодетных солдаток первой мировой войны, но как ни горласта была эта публика, на писаря никто никогда не пожаловался. Отменную сноровку проявил Коровин, составляя список большевиков своей волости для колчаковской контрразведки. Он подписал донос именами своих личных врагов и завистников, трех лавочников, да с таким мастерством, что в подлинности подписей не усомнилась даже уездная чека, разбиравшая дело после ухода белых. И как же было не посмеяться Прохору Петровичу, если погибли и большевики и лавочники, а он остался при круглом выигрыше?!. В тот год, когда мать Минодоры вынесли мертвой из жаркой бани, Коровин преуспел еще в одном довольно щекотливом деле. Дотла спалив собственный дом, он убил сразу трех зайцев: как погорелец получил крупную сумму страховых, как странноприимец начисто уничтожил следы тайной обители, а как осиротевший отец обрел долгожданный приют под кровом благоденствующей дочери.
Единственный раз в жизни судьба посмеялась над Коровиным, однако повинен был отец благочинный. Хапнув вместе с церковным старостой Коровиным из приходского сундука, священник вдруг устрашился суммы похищенного, повинился перед прихожанами, с головой выдав своего сообщника. Именно с той поры Прохор Петрович воспылал лютой ненавистью ко всем церковникам и принял новую веру — подальше от мирской суеты и людского глаза.
— Несамостоятельный народ, — пренебрежительно говорил он о попах в беседах с Трофимом Юрковым у колхозного амбара. — Несамостоятельный и вредный-с!
Трофим охотно соглашался с ним.
О многих деяниях Прохора Коровина — разумеется, кроме списка большевиков, поджога и скоропостижной смерти жены, — знали его односельчане; разговоры дошли и до дочери, но ведь кто-кто, а она-то уж хорошо знает, что «глас народа» еще не всегда «глас божий». Зато теперь, вдали от родных мест, под кровлей любимой дочери, Прохор Петрович прилежно и аккуратно служил Христу, но, памятуя, что «не согрешивый не спасется», не забывал и о своей тленной плоти.
Перед тем как заправить Минодорину постель, Прохор Петрович призагнул до половины перину и матрац и, блаженно улыбаясь, погладил свою серенькую бородку. На досках двухспальной кровати, обернутые в газеты, лежали приплюснутые пачки сотенных и полусотенных билетов — сбережения странноприимицы за годы войны, плод трудов странствующих братцев и сестриц. Налюбовавшись, он встал на колени и начал осторожно вытаскивать из пачек по одной бумажке.
— Аккуратненькие, — самозабвенно пришептывал он. — Тепленькие-с.
Коровин отобрал четыре бумажки поновей, сунул их за пояс под рубаху, заправил постель и, помурлыкивая все тот же свой любимый псалом, ушел в соседнюю комнату.
Горница служила ему жильем. Крохотная по сравнению с Минодориной комнатой, она имела лишь одно окно, выходящее в густой, нарочно запущенный садик. В красном углу горницы, на приземистой лавке, стоял потемневший от времени сосновый гроб, напротив через горницу возвышался от полу до потолка широкий и богато убранный иконостас. Если гроб предназначался здесь всего-навсего для устрашения посторонних, коли они ненароком заглянули бы сюда, и ради поддержания авторитета старого странноприимца среди братии, то иконостас играл неизмеримо большую роль. Изголовьем к гробу помещался деревянный топчан с постелью, а из-под него виднелся краешек железной шкатулки, к которой и потянулся хозяин, предварительно сняв ключик с пояса. Уложив деньги на самое дно, Коровин вынул связку тоненьких свечек и прислушался.
— Спят после шуму, — пробормотал он, закрывая шкатулку. — Но пора-с!
Подойдя к иконостасу, Прохор Петрович отодвинул в сторону медный образок Христа в терновом венце, просунул руку в образовавшееся отверстие и нажал на невидимую щеколду. Увешанный иконами щиток плавно и бесшумно повернулся на стержне, обнаружив в стене возле печи узенький проход. Коровин вошел в него, притворил за собою щиток иконостаса и, спустившись вниз по пологой лестничке, с силой толкнул массивную дверь. За нею открылся неширокий низкий коридор, освещенный единственным светильником, подвешенным к бревенчатому потолку.
Это и была обитель христиан-скрытников.
По обеим сторонам коридора виднелись дверцы келий, отмеченные иезуитскими крестами. Размашисто и жирно намалеванные кресты казались чугунными и своей грузной тяжестью будто вдавливали дверцы вместе с кельями куда-то в преисподнее бездонье. Келий было шесть, но дверей восемь: седьмая, в конце коридора, более широкая и высокая дверь вела в молельню, и восьмая, ничем не приметная, выводила из подвала в курятник во дворе.