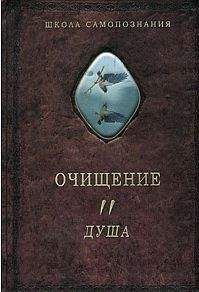Что же касается людей той поры, то я приведу слова философа Льва Митрохина из беседы с Владиславом Лекторским, которые полностью соответствуют моему отношению к философам той поры.
«Нет нужды напоминать, что это были годы жестокого подавления всякого свободомыслия, а поэтому с благодарностью вспомним тех преподавателей, которые стремились и во многом сумели привить студентам навыки творческого мышления.
И конечно, наиболее яркое впечатление оставил курс Г. И. Ойзермана по истории марксистской философии. Наверное, такая оценка выглядит неожиданной: сегодня марксизм почти единодушно объявлен оплотом догматизма и умственной окостенелости. Но Ойзерман не ограничивался механическим пересказом и даже комментированием отдельных работ Маркса и Энгельса, он стремился выявить содержательную логику развития их взглядов, и здесь перед ним открывались широкие возможности.
Учение, которое вошло в мировую культуру как марксизм, сформировалось в результате безжалостной переработки, переплавки прежних учений. Речь должна идти не о последовательной смене различных, как бы завершенных доктрин, а о стремительном становлении личного миросозерцания. Вспомним их работы раннего периода: яркие, афористические высказывания, подлинный фейерверк блестящих метафор, свидетельствующих о предельной самокритичности, творческой утонченности, готовности все подвергать сомнению.
И конечно, мастерство самого лектора. Ойзерман — натура художественная, он сумел так, я бы сказал, срежиссировать свои выступления, что мы слушали его как зачарованные.
Многозначительный факт. Когда заходит речь о наиболее творческих философах, то обычно называют имена А. А. Зиновьева, Э. В. Ильенкова, М. К. Мамардашвили, Б. А. Трушина, Г. С. Батищева. А ведь все они свои дипломы или кандидатские диссертации посвятили анализу логики «Капитала» Маркса, как бы впитав динамичность и энергетику его мышления, мастерски переданную доцентом Г. И. Ойзерманом» (Митрохин, Лекторский, с. 16–17).
Возвращаясь к Мамардашвили, я должен сказать, что настоящие марксисты всю жизнь скалили на него зубы, но в открытый спор вступать не решались. Уж больно он был хитер, и Марксизм знал не понаслышке. Его просто тихо выпирали из сообщества и лишали средств к существованию.
Он же, обеспечив себе тылы вот таким «глубоким» пониманием, а скорее, дорабатыванием Маркса, всю жизнь верно бежал за своей голубой птицей мечты. Какой? Думаю, бежал он по Дороге Домой, в ту Особую реальность, где осталась часть его души. Живи он в другом обществе, стал бы он зубрить Маркса! Просто писал бы то, чем дышала его душа.
Я расстаюсь с этой работой Мамардашвили. Главное в ней — введение понятия «овеществленные продукты сознания». Оно, безусловно, не марксистское, Марксом он лишь прикрывается, как и наукообразностью. Но прикрывается так тонко, что, пожалуй, и сам верит, что Марксизм дал ему возможность мыслить принципиально иначе. Марксизм не давал возможность, он вынуждал…
Например, вынуждал философа жить в Советском Союзе, где его медленно умерщвляли. Не знаю, рвался ли Мамардашвили за границу, хотя его друг и постоянный соавтор Пятигорский рванул в Австрию при первой же возможности. Но сам Мамардашвили считал себя космополитом, а значит, был чужим в этой стране. Думаю, что его космополитизм был несколько иного качества, чем обычно, думаю, он был чужим не в этой стране, а в этом мире. В 1988 году он публикует статью «Проблема сознания и философское призвание», где размышляет об этом. И в ней, написанной за два года до ухода из мира, появляются мысли о смерти, и пропадает весь марксизм двадцатилетней давности.
Эта статья уже не помогает понять то, как развивалась далее та новая русская философия сознания, что заявили они с Зинченко десять лет назад. Но она помогает понять Мамардашвили и его видение сознания. Поэтому я о ней расскажу.
Итак, исходное состояние философа:
«Насколько я себя помню, мои первые шаги в философии и влечение к ней были обусловлены (как я теперь понимаю) не какими-то эмпирическими причинами социального свойства и не проблемами общества, в котором я родился, а скорее моим неосознанным желанием воссоединиться с чем-то, что мне казалось частью меня самого, родным мне, но почему-то утраченным и забытым. Или, если говорить определеннее, как я сужу об этом сегодня, — с неким общечеловеческим началом культуры» (Мамардашвили, Проблема сознания, с. 37).
Далее он взрослеет, и его заносит в чисто интеллигентские сопли о космополитизме, как «глубинной сущности европейской культуры». Их я опущу. Честное слово, юный Мамардашвили, мечтающий воссоединиться с чем-то утраченным и забытым, мне нравится гораздо больше Мамардашвили, жонглирующего марксизмом и космополитизмом. От Сократического позыва вернуться на Небеса, Прародину скатиться до диссидентства и служения европейским ценностям можно было только в Советской России, где лучшими людьми были те, кто бывал за Бугром. Дружить с ними было так престижно!.. Правда, приходилось немного платить душой.
Кстати, то, как платили властям за право публиковаться, довольно хорошо изучено. А то, как платили за право войти в сообщество инакомыслящих, не изучает никто, потому что все, кто может изучать, как раз выходцы из этого сообщества. Но они не занимаются самопознанием, они делают Науку…
Из мыслей, которые Мамардашвили развивал десять лет назад, в 1977 году, сохраняется к этому времени немногое, но, видимо, главное. В первую очередь, это понятие «иной реальности».
«В том, как понимается мышление в европейской традиции, уже как бы изначально содержится сознание иного. Этим иным, или другим миром, может быть другой человек, другая точка зрения, другая перспектива, вообще другой мир или другой космос. Все эти вещи стоят в одном ряду и являются расшифровкой слова «иное». Иная реальность!» (Там же).
Я не зря вспомнил Сократа. Мамардашвили, конечно, очень европейский философ, и сознание у него мыслится картезиански, но при этом изначальный позыв был все-таки платоническим.
«…я могу, видимо, сказать, что наше движение в сторону подозреваемой иной реальности есть не что иное, как просто приближение к известной платоновской метафоре «пещеры». Перед нами действительно «тени», не имеющие существования, а то, что подозревается как иной мир, иная реальность, и есть та реальность, в которую мы можем попасть лишь через свидетельское сознание, с помощью которого мы смогли отстраниться от мира и отстранить его» (Там же, с. 39).
В связи с этим есть смысл сразу дать основное понятие о сознании, используемое Мамардашвили — сознание есть место встречи с иным миром, в сущности, с Небесами Платона, где живут Идеи.
«Допустим, у нас есть понятие кривой или постоянного искривления. Если мы имеем кривую, которая имеет постоянную кривизну, <… > то доказуемо, выводимо из имеющегося у нас знания, что такая кривая пересечет самое себя. Но будет ли это пересечение кругом, из этого невыводимо.
Если есть круг, то мы увидим круг. Но получить его, ожидая, что кривая где-то пересечется, невозможно.
Поэтому, кстати говоря, одни философы (я имею в виду прежде всего Платона) и прибегали в этом случае к понятию «идеи», а другие, как, например, Декарт, — к понятию "врожденной идеи". Кант же называл такие вещи просто "чистыми созерцаниями", подчеркивая тем самым, что мы можем понять что-то в мире в терминах причины только тогда, когда понятие причины у нас уже есть.
Значит, это всегда взаимоотношение с иным, к которому мы не можем непрерывным образом перейти продолжением своих собственных сил. И вот это место перехода, или место связанности, и есть сознание, которое у нас есть или нет.
То есть сознание — это место. В топологическом смысле этого слова» (Там же, с. 41–42).
Понимание сознания как места, как вы помните, привело к пониманию его как некоего пространства, но тогда это совмещалось с понятием «чувственно-сверхчувственных» вещей. И породило понятие о дополнительных к телу органах с иной вещественностью — как бы вещественностью.
Теперь Мамардашвили занимает совсем иная сторона этого понятия — место для него, скорее, вход в иной мир, в мир идеальный, открывающийся за «символом смерти». Поэтому он всю статью возвращается к менее заметной мысли: если есть круг, то мы увидим круг. Иначе говоря, мы увидим круг, если узнаем, если нам есть чем его узнать. В сущности, это мысль о том, что у нас есть «врожденные идеи», но они — идеи Платона. И если это так, то Небеса существуют.