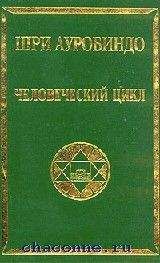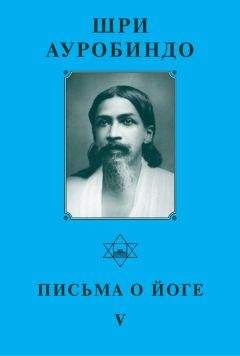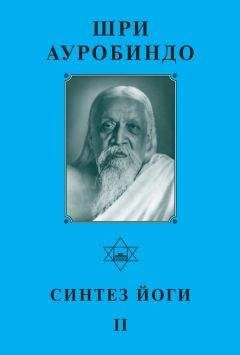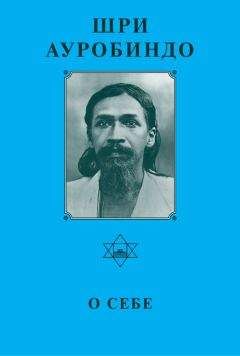Что касается самой жизни ума, то просто жить погрузившись в его практическую и динамическую деятельность или в ментализированный поток эмоций и чувств, жизнью конвенционального поведения, усредненных ощущений, общепринятых идей, мнений и предрассудков, порожденных не самим человеком, но его окружением, не знать свободной и живой игры разума, но жить пошло и бездумно по правилам непросвещенного большинства и вдобавок в согласии с чувствами и ощущениями, обусловленными определенными конвенциями, но не очищенными, не просвещенными, не облагороженными никаким законом красоты, такая жизнь тоже является противоположностью идеалу культуры. Человек может жить так, сохраняя всю видимость цивилизованной жизни или все претензии на нее, успешно наслаждаться всем изобилием ее аксессуаров, но он не является развитым человеком в подлинном смысле этого слова. Общество, следующее подобному образу жизни, может быть каким угодно — сильным, благопристойным, хорошо организованным, процветающим, религиозным, нравственным — но это общество обывателей; это тюрьма, которую должна разрушить душа человека. Ибо, пока она остается там, она остается в низшем, лишенном вдохновения и возможности развития ментальном состоянии; она прозябает, влачит бесплодное существование на нижнем ментальном плане и управляется не высшими способностями человека, но примитивными импульсами неразвитого чувственного ума. И ей недостаточно открыть окна этой тюрьмы, чтобы глотнуть сладостного свежего воздуха, увидеть проблеск свободного света разума, почувствовать слабый аромат искусства и красоты и услышать тихий зов широких далей и высоких идеалов. Она еще должна вырваться из своей тюрьмы на волю и жить в сиянии этого свободного света, полной грудью вдыхая этот аромат и устремляясь на зов этих далей; только тогда она оказывается в среде, естественной для развитого ментального существа. Жить, погрузившись преимущественно не в деятельность чувственного ума, но в деятельность знания, разума и широкой интеллектуальной любознательности, в деятельность развитого эстетического существа и просвещенной воли, которая формирует характер, высокие этические идеалы и широкое поле человеческой деятельности; руководствоваться не понятиями низшего или среднего менталитета, но истиной, красотой и самоуправляемой волей — вот идеал подлинной культуры и первое приближение к совершенному человечеству.
Так методом исключения мы пришли к ясной идее и окончательному определению культуры. Но и на этом высшем уровне ментальной жизни мы по-прежнему остаемся в плену старого узкого видения и неверного понимания. Мы видим, что в прошлом между культурой и поведением, похоже, часто возникал конфликт; тем не менее, согласно нашему определению, поведение — это тоже часть культурной жизни, а стремление к этическому идеалу — одно из главных устремлений культурного человека. В основе противопоставления, выделяющего, с одной стороны, стремление к идеям, познанию и красоте, которое называется культурой, а с другой — работу над характером и поведением, которая называется моральной жизнью, очевидно, лежит неполное представление о человеческих возможностях и совершенствовании. И это противопоставление не только существует, но и выражает естественную сильную тенденцию человеческого ума и, следовательно, должно отражать некое реальное и существенное противоречие между составными частями нашего существа. Именно в этом смысле Арнольд противопоставил иудейству эллинизм. Ум еврейского народа, который дал нам суровую этическую религию Ветхого Завета примитивную, конвенциональную и достаточно варварскую в Моисеевых законах, но поднимающуюся к неоспоримым высотам нравственного величия в добавленных позднее книгах пророков и наконец превзошедшую себя и распустившуюся чудесным цветком духовности в иудейском христианстве — был всецело поглощен земной и этической праведностью и обещанными наградами за верное почитание Бога и правильное поведение, но не знал науки и философии, пренебрегал знанием и был равнодушен к красоте. Эллинский ум не столь исключительно, но все же в большой мере определялся любовью к игре разума ради нее самой, но еще сильнее — высоким чувством красоты, тонкой эстетичес-кой восприимчивостью и поклонением прекрасному в любой сфере деятельности, в любом творении, в мысли, искусстве, жизни, религии. И настолько сильным было это чувство, что не только поведение, но и мораль эллинский ум рассматривал в значительной степени с точки зрения господствующей идеи красоты; он инстинктивно понимал добро главным образом как гармоничное и прекрасное. В самой философии ему удалось прийти к концепции Божественного как Красоты т. е. к истине, мимо которой очень легко проходит метафизик, обедняя тем самым свою мысль. Но все же, сколь бы разительным ни было это исходное исторически сложившееся противопоставление и сколь бы значительными ни были его последствия для европейской культуры, мы не должны останавливаться только на внешних его проявлениях, если хотим понять первопричины этой психологической полярности.
Данное противоречие возникает в силу того треугольного строения высшего, или более тонкого менталитета, на которое нам уже довелось указать. В нашем менталитете есть сторона воли, поведения, характера, которая создает этического человека; и есть другая сторона — выражающая чувство прекрасного (имеется в виду красота в широком смысле слова, а не только высокое искусство), которая создает артистического или эстетического человека. Поэтому может существовать такое явление, как преимущественно или даже исключительно этическая культура; очевидно также, что может существовать преимущественно или даже исключительно эстетическая культура. Таким образом, сразу появляются два противоположных идеала, которые должны находиться в естественном противоречии и смотреть друг на друга косо, с взаимным недоверием или даже осуждением. Эстетический человек склонен смотреть с раздражением на этический закон; он видит в нем препятствие для своей эстетической свободы и способ подавления своего художественного чувства и художественных способностей; по природе своей он гедонист, ибо красота и наслаждение не отделимы друг от друга, а этический закон осуждает земные радости, зачастую даже самые невинные, и пытается затянуть в узкий корсет человеческое стремление к наслаждению. Эстетический человек может принимать этический закон, когда тот становится прекрасным, или даже пользоваться им как одним из своих орудий для созидания прекрасного, но только если сумеет подчинить его эстетическому принципу своей природы; точно так же он часто обращается к религии, привлеченный ее эстетической стороной — красотой, великолепием, пышностью ритуала, возможностью эмоционального удовлетворения, умиротворения или поэтической одухотворенностью и возвышенностью — можно сказать, чуть ли не гедонистическими аспектами религии. Но даже когда он принимает их полностью, он делает это не ради них самих. За эту естественную антипатию этический человек отплачивает ему с лихвой. Он склонен не доверять искусству и эстетическому чувству как чему-то разлагающему и расслабляющему, чему-то неорганизованному по самой природе своей и губительному для высокого и строго самоконтроля из-за своей чарующей притягательности для страстей и эмоций. Он видит, что эта сила гедонистична, и считает, что гедонистический импульс не морален, а зачастую и аморален. Ему трудно понять, как можно согласовать потворство эстетическому импульсу со строгой этической жизнью, если не заключить его в очень узкие и тщательно охраняемые границы. Он развивает тип пуританина, который возражает против наслаждения из принципа; не только в крайних своих проявлениях — а преобладающий импульс стремится стать всепоглощающим и ведет к крайностям, — но по складу своего характера он остается в основе своей пуританином. Взаимное непонимание между этими двумя сторонами нашей природы является неизбежным условием человеческого развития, в процессе которого предполагается максимально выявить возможности каждой из сторон и испытать их в крайних своих проявлениях для того, чтобы понять весь диапазон наших потенциальных сил.
Общество есть тот же индивид, взятый в более крупном масштабе; поэтому различие и противоречие между типами индивидов повторяется как различие и противоречие между типами обществ и наций. В поисках наиболее выразительных примеров мы не должны обращаться к социальным формулам, которые в действительности не иллюстрируют эти противоположные тенденции, но отражают их в извращенном, искаженном или ложном виде. Мы не должны брать за образец этического типа пуританство среднего класса, отмеченное ограниченной, умеренной и конвенциональной религиозностью, которая была столь характерна для Англии девятнадцатого века; то была не этическая культура, но просто местный вариант обычной формы буржуазной респектабельности, которую на определенной стадии цивилизации вы найдете в любом обществе, — т. е. обывательщина в чистом виде. Равным образом мы не должны брать за образец эстетического типа любое просто богемное общество или такие примеры, как Лондон эпохи Реставрации или Париж известных кратких периодов своей истории; такое общество, несмотря на некоторые свои претензии, всегда ставило своим принципом потворство среднему человеку, живущему жизнью ощущений и чувств, которого поверхностный интеллектуализм и эстетизм освободил от условностей морали. Мы даже не можем взять за образец этического типа пуританскую Англию; ибо, несмотря на напряженную, чрезмерную сосредоточенность на воспитании характера и этического существа, в ней преобладала религиозная тенденция, а религиозный импульс стоит особняком от прочих наших субъективных тенденций, хотя и оказывает на всех них влияние; он sui generis и должен рассматриваться отдельно. Чтобы найти истинные, если не всегда вполне чистые образцы того и другого типа, мы должны обратиться ко временам чуть более отдаленным и сравнить Афины эпохи Перикла с ранним республиканским Римом или (в самой Греции) со Спартой. Ибо спускаясь все ниже по реке Времени на нынешнем витке эволюции, мы видим, что в массе своей человечество, обогащенное коллективным опытом прошлого, становится все более и более сложным, и старые четко выраженные типы не повторяются или повторяются случайно и складываются трудно.