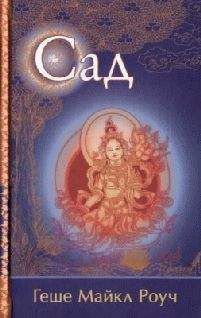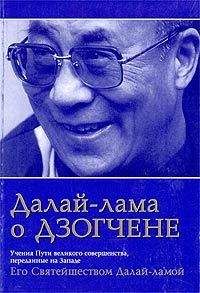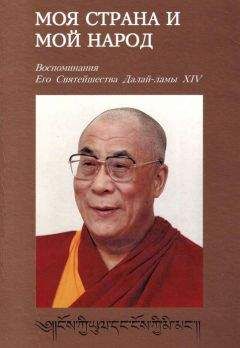- Как это какого? - снова изумился я. Да, этот настойчивый коротышка - Великий Цонкапа во плоти, - семенивший сбоку от меня, вовсе не тянул на великого философа. Я почувствовал разочарование не только в его внешности, но и в его вопросах. - Ну вот взять хоть счастье, которое доставляет ребенок, радостный, здоровый, улыбающийся карапуз!
- Я правильно понял, что твоя идея счастья воплощена именно в этом - в личике веселого малыша?
- Ну да, - ответил я. - Именно в этом веселом личике. Кто будет оспаривать его красоту? Кто смог бы найти здесь боль или страдание?
Он резко остановился, развернулся и взглянул на меня со смешанным выражением гнева и жалости.
- Этот малыш… - заговорил он, - этот малыш… Разве ему не предстоит столкнуться с ужасными бедами? Разве ему не предстоит пережить смерть своих любимых родителей - отца и матери? Разве он не увидит катастрофы, войны, насилие и ненависть людей друг к другу?
И если он проживет долго, то разве не придется ему смириться с утратой всего, что ему дорого, а в конце жизни превратиться в немощного беззубого седого старца? И разве этот прекрасный сегодня смех младенца не станет завтра предсмертным хрипом?
Я был ошеломлен его напором.
- Конечно-конечно, все это весьма возможно…
- Возможно?! - Он почти кричал на меня своим пронзительным голосом. - Возможно?! А тебе не кажется, что все это более чем возможно, а на деле практически неизбежно?
- Хорошо, пусть так. Любой младенец в детстве весел и счастлив, потом он видит все эти ужасы и становится хилым и беспомощным страдающим старцем.
- Так как же ты можешь говорить, что лицо этого ребенка прекрасно? - продолжал наезжать на меня Цонкапа.
- Вот так и могу, - с полной уверенностью в своей правоте ответил я. Слова возражения хлынули потоком откуда-то изнутри, без напряжения, естественным образом. - Это ж очевидно: младенцу хорошо и весело сейxас, в данный момент, это сегодня он так прекрасен, когда, смеясь, смотрит на нас своими чудными глазенками. И пусть потом он состарится, пусть он насмотрится ужасов этой сумасшедшей жизни, все равно вот прямо сейчас, в дни его детства, он пока еще радостен и красив,
- Так, значит, это приятно, - проговорил он уже мягче и как-то задумчиво, - приятно и совсем не больно, если медленно, но с нажимом водить языком по лезвию бритвы?
Этот яркий образ снова поразил меня - голым языком да по сверкающему лезвию, брр-р!
- Конечно, больно, еще как больно! Порезаться ведь можно.
- А теперь представь, - продолжал он, - что бритва обильно смазана медом; представь, что она спрятана под слоем меда так, что ее не видно. И вот ты лижешь мед, наслаждаясь его теплым сладким вкусом, еще не зная, что в нем бритва, и вдруг, лизнув в очередной раз, понимаешь, что разрезал себе язык.
- Это будет очень больно и вовсе не приятно. Трудно представить себе боль острее. Если лизать мед, а при этом лизнуть лезвие бритвы и поранить язык, то это будет одна только боль.
- Итак, ты хочешь сказать, - заговорил тибетец таким уверенным голосом, который я слышал в Академии у своего однокашника во время игры в шахматы, хода за два до того, как тот ставил мне мат, - что лизать мед - не удовольствие?
- Лизать мед? - автоматически переспросил я. - Удовольствие.
- А лизать мед, если в нем бритва, которая располосует тебе язык на ленточки, - удовольствие?
- Ну говорили же уже, что нет, не удовольствие. Сколько можно?
- Итак, если удовольствие неизбежно сопровождается безграничным страданием, то можно сказать, что это не удовольствие?
- Да! - с торжеством сказал я.
- Так-то вот! - торжествующе заключил он и показал мне лицо младенца: оно было прекрасно и радостно, на нем не было ничего, кроме страдания.
СОЗЕРЦАНИЕ. КАМАЛАШИЛАСлова Учителя Цонкапы и, как мне сейчас представляется, смерть моей матушки сильно подействовали на меня. Не то чтобы я был подавлен или впал в отчаяние; внешне я жил обычной жизнью, продолжал свои научные исследования, занимался литературной деятельностью, обеспечивая себе вполне пристойный, хотя и скромный достаток.
Однако мысли о жизненных путях и смерти стали постоянными спутниками в моем сознании, из одного всегда следовало другое.
Да, моя мать прожила хорошую и плодотворную жизнь; вырастила детей, много сделала для страны, всегда и без всяких раздумий шла навстречу нуждам людей, помогая не только своим, но и чужим. Но зачем все это было нужно, если она все равно состарилась и умерла в страшных муках от рака, если все, ради чего она жила: ее сыновья, ее дом, плоды ее труда - тоже рассыплется в прах и будет позабыто совсем скоро после того, как позабудут ее саму? Пример ее жизни был доказательством тех слов, что сказал мне в Саду Цонкапа: даже то, что кажется или считается хорошим и красивым, таковым на деле не является, если неизбежно должно закончиться болью и смертью. Мне вообще казалось, что Цонкапа появился там благодаря моей матери, ведь он пришел в Сад, уже зная мои проблемы и имея ответы на мои вопросы.
Смерть и пути этой жизни определяли мои мысли в течение нескольких месяцев, и, в конце концов, я был вынужден искать уединения в небольшом скиту недалеко от нашего степного городка. Там оказался добрый, праведный и образованный настоятель, который приветливо принял меня, отвел мне для жилья маленькую тихую келью и закрепил за мной должность помощника хранителя богатого книжного собрания в усадьбе одного помещика неподалеку. Я проводил много времени за изучением священных текстов, еще больше - в мыслях о жизненных путях и смерти, пока наконец не почувствовал, что ответ на мои вопросы существует и что я смогу его отыскать. Я всей душой устремился на поиски этого ответа, этого истинного Пути. Меня снова потянуло назад, в Сад. И вот я опять оказался там в ранние сумерки, в то время года, в самом начале весны, когда в воздухе разливается сладковатый запах первоцвета, степь начинает зеленеть робкой травкой, а за каменной оградой моего любимого Сада одеваются нежной листвой розовые кусты. Я снова хотел встретить ее там.
На этот раз ждать пришлось недолго, да и разочарование не заставило себя ждать: я почувствовал, что кто-то идет ко мне в темноте от калитки, но это были совсем не ее шаги. Это была не летящая походка юной богини, а мерная, но вместе с тем бодрая и деловитая поступь, вдобавок ко всему весьма тяжелая. Я обернулся и увидел великого Мастера медитации Камалашилу.
Он не имел ничего общего с тем образом, который мы привыкли рисовать в своем воображении; я ожидал разглядеть в его лице и теле суровую внешность аскета: попробуй-ка час за часом неподвижно сидеть в глубоком созерцании на краю каменной скалы где-то в Гималаях, да еще и одиннадцать столетий назад. Но теперь я видел живого человека, а не плод своего воображения, и он был совсем не похож на этот плод. Он был среднего роста, его монашеские одежды были слишком высоко подоткнуты - почти до колен, что придавало ему несерьезный вид - просто мальчуган какой-то. Его темнокожее индийское лицо тоже вполне соответствовало такому определению: полные щеки, всегда готовые расплыться в улыбке, смешной толстый нос, недобритые пучки седых волос на макушке, но самое главное - постоянно смеющиеся сверкающие глазки, вполне отражающие его собственное настроение.
- Ты хочешь найти Путь! - сказал он утвердительно.
- А то! - поспешно ответил я, потому что, узнав истинное страдание, наполняющее этот мир, не мог больше спокойно сидеть и дожидаться, когда спасение само свалится ко мне в руки.
- Ну и почему нет-то? - засмеялся он. - Нет-то почему?
- Я хочу узнать, почему умерла моя мать, - угрюмо промолвил я, - хочу знать, мог ли я хоть как-то ей помочь, а может быть, и сейчас еще смогу сделать что-нибудь для нее. А еще я хочу понять, неужели все должно происходить так, как происходит всегда.
- Да! Да! - прокричал в ответ Камалашила. - Еще как сможешь!
Почему нет-то? Тебе надо уже научиться созерцать!
С этими словами он плюхнулся на траву около чинары, помнящей так много нежных ночей, проведенных с ней под этим покровом.
Жестом он пригласил меня сесть рядом с ним. Я немного занимался медитацией с друзьями по Академии, кое-что об этом читал, так что, недолго думая, уселся на землю, выпрямил спину, сложил ноги крестнакрест, закрыл глаза и постарался вообще больше ни о чем не думать.
Индиец хихикнул и звонко хлопнул меня по спине.
- Не спи, замерзнешь! Ты что же это такое делаешь! - весело спросил он.
- Созерцаю! - гордо ответил я.
- А вот стометровку ты побежал бы без разминки? - снова радостно обратился он ко мне.
- Ну уж нет.
- Вот и давай уже сделаем разминку! - засмеялся мой наставник и вскочил на ноги.
- Разминку? Это как? - сварливо переспросил я, нехотя поднимаясь и представляя себе всякие там отжимания, приседания, растяжки и прочие неприятные вещи.