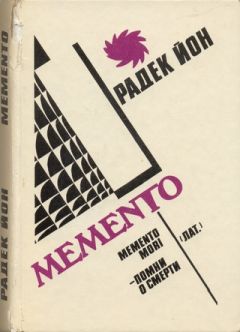Деревья снова зазеленеют. А мы – как захотим и как сможем. Да, с обретением жизненного опыта люди оказываются для нас все более предсказуемыми. Но если опыт не превращать в шоры или темные очки на глазах, если смотреть пристально и не уставать вникать, если на грубых булыжниках общей схемы не отрекаться от стебельков неповторимых нюансов… Тогда все больше открывается тайн, и сама предсказуемость получает восклицательный знак откровения.
Полтакта в пьесе мироздания – мощный образ. Ваш покорный слуга претендует на четверть ноты, и это знаете много как?!
Жить – идти долго? Да, бесконечно долго.
Почему время скудеет? Потому что за себя держимся и утрачиваем любопытство. Жить – идти непонятно куда?.. Да, как в Космосе. Если есть крылья, зачем дорога? А если нет крыльев – дорога обманет.
Давно и я всматриваюсь в происходящую вокруг и во мне жизнь как бы из иномирия – так, словно меня в этой жизни в качестве ее участника больше нет. И явственно чувствую, что при таком материальном отсутствии неизбежно возникает присутствие, но другое. Имею и опыт телесного почти-небытия (травматической комы), в котором другое присутствие – неощутимо-проникающее, всебытийное – обозначилось четко.
Опыт надсознательного состояния
пребывание в междумирии с несложной помощью автокатастрофы, которой могло и не быть
Смысл, запертый в бессмыслице. Постигнуть
его мне довелось к исходу дня,
когда решился время перепрыгнуть,
и мой прыжок остался без меня.
Я над самим собой летал как будто
и видел тело – грузовой вагон,
стоящий в тупике с пометкой брутто,
а снизу черным цветом – перегон.
Вон тот, кого считали за кого-то,
любили так и не любили сяк.
Дым без огня. Игрушка идиота.
Над пустотой трудившийся пустяк.
Вон пользуют какого-то проклятого
и превращают жизнь в мясной базар,
но яростная блажь реаниматоров
не приземляет перелетный дар.
Еще вокруг хлопочут, суетятся,
обряд непонимания верша,
но воздух перестал сопротивляться,
и день рожденья празднует душа.
У Юрия Олеши, одного из любимейших моих писателей, много дневниковых размышлений об этом. И написались однажды им удивительные прощальные слова, светлые, благословляющие:
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИР БЕЗ МЕНЯ
Чтобы оценить светоносную силу и бездонный смысл этих слов, пронизанных любовью к жизни, нужно прочесть всю запись Олеши, весь проход мыслечувствия, к ним подводящий. Цитировать не буду, скажу лишь, что долгие годы эта формула поддерживает меня в самые трудные моменты – в затменных кризисах кажущегося одиночества.
Заглянув в другое присутствие, я обнаружил, что любить мир-без-меня несравненно легче, чем мир-со-мной. Когда же удается хоть изредка совместить в себе этот безсебяйный мировосторг и самую обыкновенную радость наличного бытия – что подышать можешь, поглазеть, пожевать, пообнимать, подотрагиваться – почему бы нет – но плюс еще этот тихий экстаз безсебяйности… Это вот конкретно счастье и есть, то земное счастье, которое обязательно включает в себя и присутствие неба.
Все вместе и будет, и уже есть. Почему маленький ребенок так легко и естественно принимает объяснение смерти как переселение на небо? Потому что это запредельно верное объяснение. Надфизически истинное. Его очень много, неба, хватит на всех.
Взгляд уходящих не мигает.
Пора, пора – разъезд гостей…
Судьба не разожмет когтей
и душу, легкую добычу,
ввысь унесет, за облака,
а кости вниз – таков обычай
и человеческий, и птичий,
пришедший к нам издалека
Одни хотят худеть, другие не худеть,
одни хотят хотеть, другие не хотеть.
Кто скажет мне, на кой вся эта свистопляска
Тому, Кто всех обрек стареть и умереть?
(из подражаний Хайаму)
Бессмертие души врача обычно не занимает, по крайней мере во время работы со смертным телом. И я тоже забыл думать об этом, вступив на медицинское поприще, хотя подростком еще сочинил теорию космической вечности, основанную на математическом представлении о бесконечно малых.
А вспомнил, когда работал в большой московской психиатрической больнице. Дежуря, ходил на вызовы и обходы, в том числе в старческие отделения – те, которые имели название «слабые», откуда не выписывали, а провожали. (Ходил потом и в другом качестве. Провожал маму, еще не старую, у нее был ранний Альцгеймер.)
Меня встречали моложавые полутени со странно маленькими стрижеными головками; кое-где шевеление, шамканье, бормотание, вялые вскрики… Удушливо-сладковатый запах стариковской мочи, запах безнадежности.
Если о душе позабыть, то все ясно: вы находитесь на складе психометаллолома, среди еще продолжающих тикать и распадаться, полных грез и застывшего удивления биопсихических механизмов. Одни время от времени пластиночно воспроизводят запечатленные некогда куски сознательного существования, отрывки жизни профессиональной, семейной, интимной, общественной; другие являют вскрытый и дешифрованный хаос подсознания, все то банальное и подозрительное, что несет с собой несложный набор основных влечений; третьи обнажают еще более кирпичные элементы – психические гайки и болты, рефлексы хватательные, сосательно-хоботковые и еще какие-то… Это уже не старики и старухи. Что-то другое, завозрастное.
Скудеющий разум старухи
не в силах тревоги унять,
и мания жизнь удлинять
слона сотворяет из мухи.
А смерть не берет, не берет,
да вдруг и ударит вкосую
и выкинет, карты тасуя,
туза козырного вперед.
Ей, Господи, наша убогость!
Вотще пред тобою стоим.
Пошли свою нежную строгость
забытым детишкам твоим.
Заведовал слабым отделением доктор Медведев Михал Михалыч (из соображений писательской этики я кое-что несущественно меняю, называя его). Огромный, грузный, седой, телом вправду очень медведистый, а лицом вылитый пес сенбернар, глаза с нависшими веками, печально-спокойные.
Вся больница его величала заглазно Пихал Пихалычем; кое-кто иногда забывался, называл так и в лицо. Доктор кротко грустнел, поправлял: «Михаи́л Михаи́лович я. Не обижайте меня, пожалуйста. Я вас очень уважаю, мой друг».
И в самом деле, это было совершенно неподходящее для него прозвище, но прилипшее. Единственное, на что этот гигант обижался.
Жил холостяком. Девять лет отсидел ни за что, по доносу дворника.
Пихал Пихалыч был созерцательным оптимистом. Что-то пунктуально записывал в историях болезни. За что-то перед кем-то отчитывался – то ли оборот койко-дней, то ли дневной койко-оборот, статистика диагнозов и т. п.
Но сам не ставил своим больным никаких диагнозов, кроме одного: «Конечное состояние человека»; различиям же в переходных нюансах с несомненной справедливостью придавал познавательное значение.
Больных неистощимо любил, называл уменьшительно, как детей: Сашуня, Валюша, Катюша. Некоторые реагировали на свои имена, некоторые на чужие.
И еще ласково-уважительно называл их «мой друг», как и нас, коллег.
– А вот эта койка будет моей, – сказал однажды мне, застенчиво улыбнувшись и указав на аккуратно застеленную пустую кровать в углу палаты, где из окна виднелся прогулочный дворик с кустами то ли бузины, то ли рябины. – Вот тут будет Мишенька.
– Ага… Как?.. То есть почему? – тупо спросил я.
– Я намереваюсь дожить до старческого слабоумия и маразма. Ни рак, ни инфаркт, ни инсульт меня не устраивают, это все ошибки. Маразм, знаете ли, мой друг, это очень хорошо. Мечтаю о здоровом маразме. Правильное, нормальное конечное состояние.
Пихал Пихалыч ничуть не шутил. Но мечта его не сбылась: он был сбит пьяным водителем самосвала возле подъезда своего дома, умер почти мгновенно.
…Я возвращался в дежурку, чтобы пить чай, курить (после этих обходов особенно хотелось курить или выпить что-нибудь покрепче), шутить с медсестрой на вольные темы, читать и, если удастся, поспать, а если не удастся, поесть.
Нагота человеческая беспомощна и при самых могучих формах. Патолого-анатомический зал – первое посещение в медицинском студенчестве. (Не последнее.) Хищные холодные ножницы с хрустом режут еще не совсем остывшие позвонки, ребра, кишки, мозги, железы. Помутневшая мякоть. Все видно, как при разборке магнитофона: все склерозы и циррозы скрипят и поблескивают на ладони. Вон сосуд какой-то изъеден, сюда, наверно, и прорвалось… Прощальная, искаженная красота конструкции, всаженная и в самые захирелые экземпляры.