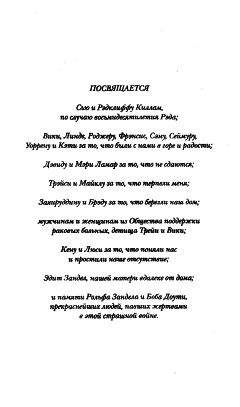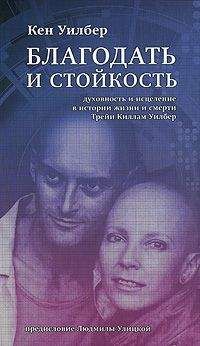Впрочем, все дело именно в комплексе вины. Если человек заболевает раком и считает, что он сам его на себя навлек, то он начинает чувствовать свою вину за неправильное или дурное поведение, и тогда чувство вины превращается в проблему, которая может мешать человеку справляться с недугом и двигаться к здоровью или полноценной жизни. Вот почему с самим вопросом об ответственности надо обращаться крайне деликатно. Вот почему так важно обстоятельно разграничивать различные причины и не приписывать другим подсознательных мотивов. Если другие люди рассуждают обо мне подобным образом, у меня создается впечатление, что надо мной совершается насилие; я чувствую себя беспомощной. Все мы знаем, как это оскорбительно, когда кто-то другой обвиняет тебя в том, что ты действуешь под влиянием подсознательных побуждений, а потом интерпретирует все твои возражения как пустые отговорки и лишнее доказательство своей правоты. Вот она — психология в самой жестокой версии.
Большинству больных приходится преодолевать тяжелейшие стрессы, независимо от того, задаются ли они этими сложными вопросами о причинах и факторах. И еще больший стресс им приходится переживать, если они начинают чувствовать себя от ветственными за свои болезни. Надо уважать права этих людей и, по крайней мере, внимательно относиться к границам, которые они просят соблюдать. Я не хочу сказать, что всякие споры исключены. Конечно, нет. Я протестую, когда люди начинают рассуждать обо мне и им даже в голову не приходит спросить, а что я думаю о себе и своей болезни. Мне не нравится, когда кто-нибудь говорит: «Н. считает, что рак появляется от уныния», особенно если это сказано таким тоном, который подразумевает, что говорящий относит это и к моему раку. Или так: «Причина диабета — в нехватке любви». Ну откуда мы это знаем? Но я не буду возражать, если у меня спросят: «Н. считает, что рак появляется от уныния; а ты как думаешь? Это хоть сколько-то справедливо в твоем случае?»
Я считаю, что кризисные моменты в жизни мы можем использовать для исцеления. Я абсолютно в это верю. Я знаю, что в какие-то моменты меня охватывало уныние, и хотя я и не знаю, сыграло ли это хоть какую-то роль в том, что я заболела раком, я думаю, что нужно осознавать такую вероятность и сознательно использовать постигший тебя кризис, чтобы исцелиться от уныния, научиться прощать себя и сочувствовать себе.
Думаю, все сказанное можно подытожить следующим образом.
У меня был рак. Я тяжело это переживала — и то, что моя жизнь оказалась под угрозой, и то, что мне пришлось пройти через операцию и лечение. Я была напугана. Я чувствовала себя виноватой в том, что заболела раком. Я спрашивала себя: что я такого могла сделать, что навлекла на себя болезнь? Задаваясь такими вопросами, я была недобра к самой себе. Я прошу о помощи, я не хочу, чтобы и вы тоже были ко мне недобры. Мне нужно, чтобы вы меня понимали, были со мной деликатны, помогли мне преодолеть эти сомнения. Мне не нужно, чтобы вы, так сказать, теоретизировали обо мне за моей спиной. Мне нужно, чтобы вы попытались понять, что я чувствую, поставили себя на мое место и по возможности отнеслись ко мне добрее, чем порой отношусь к себе я.
В марте мы с Трейей съездили в клинику Джослин в Бостоне, знаменитую своими высокими показателями при лечении диабета, — это была попытка эффективнее справиться с новой болезнью. В то же время это была деловая поездка в издательство «Шамбала», которая означала также встречу с Сэмом.
Сэмми! Какой он славный! Преуспевающий бизнесмен — и при этом такой открытый и добрый. Мне очень нравится любовь, которая связывает их с Кеном, нравится, как они все время подшучивают друг над другом. В офисе «Шамбалы» они прочитали несколько последних рецензий на книги Кена. Похоже, они имеют большой резонанс, и не только в Америке. Сэм сказал Кену, что тот стал культовой фигурой в Японии, но там его считают представителем нью-эйдж, — Кена это разозлило. В Германии он стал крупной величиной в серьезных научных кругах. Мы шутили про орден Уилберианцев. Все говорили о том, что Кен меняет ся, он стал более чувствительным, более простым в общении, не таким саркастичным, отстраненным и высокомерным — в общем, куда симпатичнее.
Обедали с Эмили Хилберн Селл, редактором в «Шамбале». Я очень ее люблю и доверяю ей. Рассказала о книге, над которой работаю — про рак, психотерапию и духовность, — и попросила стать моим редактором. С удовольствием, ответила она, и я почувствовала еще большую решимость довести свой проект до конца!
Потом тем же днем мы стояли в детском отделении клиники Джослин и ждали медсестру. На доске объявлений было полным-полно газетных статей, объявлений, плакатов, детских рисунков. Один из заголовков — «Жизнь как повод для размышлений десятилетнего человека». Крупным шрифтом была приведена цитата из письма десятилетнего ребенка о том, что большинство детей, впервые узнав о том, что больны диабетом, просто злятся, хотят, чтобы это оказалось неправдой, и отказываются что-либо предпринимать. Рядом с этой вырезкой был плакат с надписью «Ты не знаешь кого-нибудь, кто хотел бы ребенка и был болен при этом диабетом?» и лицом маленького ребенка, смотрящего прямо на тебя. Еще одна газетная вырезка — о четырехлетних детях, больных диабетом, и еще один плакат о том, как помочь детям преодолеть страх перед больницами. У меня из глаз полились слезы. Бедные дети — они такие маленькие, и через что им приходится проходить! Как же это грустно! Было несколько ярких цветных карандашных рисунков про доктора Бринка — один из них особенно сильно запал мне в душу. Там было написано: «Доктор Бринк и диабет подходят друг другу, как...» — а внизу были нарисованы лимонад, банановое пирожное и шоколад: по-видимому, ребенок, нарисовавший этот рисунок, все это любил, но теперь уже не мог это есть и пить. Он и выбрал их, эти запрещенные лакомства, чтобы выразить свою мысль.
На следующий день была Пасха, и мы пошли в храм Троицы: здание было построено в 1834 году, а приход образовался в 1795-м. Изумительная церковь со сводами в романском стиле, внутри украшения из золотых листьев, теплые цвета — темно-зеленый и терракотовый. В эту Пасху церковь была переполнена. Когда мы зашли, то увидели стол, заваленный цветами герани, — позже мы узнали, что в этой церкви есть традиция в Пасху дарить каждому ребенку из прихода по цветку. Это явилось для меня некоторой неожиданностью и напоминанием о том, что мы живем в христианской стране, хотя я об этом и забыла. Все были разодеты. Еще когда мы шли в церковь, было такое ощущение, что для выхода на улицу непременное требование — пальто и галстук. Бостонский дресс-код во всей своей красоте.
Мы протиснулись через все эти выходные костюмы с прилагающимися аксессуарами, через пасхальные шляпы и наконец нашли место с прекрасным обзором, прямо над алтарем, позади одного из трубачей, возвещающих пришествие Пасхи. Стали смотреть сверху на все эти седые, темные, светлые и лысые головы, в шляпах и без. Все мы чувствовали себя приподнято, ощущая свой статус сыновей и дочерей Христовых, а вокруг нас была сверкающая позолота, над нами вздымались своды, а перед нами — был великолепный крест над главным притвором.
Проповедь мне понравилась. Она была короткой и культурной: цитаты из Библии звучали в ней вперемежку с цитатами из джойсовского «Улисса». Такова англиканская церковь. Пастор говорил о страданиях в нашем мире, о старом веровании, что страдающие так или иначе заслужили свои страдания, и спросил: «Неужели мы не можем отказаться от этого древнего предрассудка о том, что страдальцы заслуживают своих страданий? Каждую ночь две трети населения земного шара ложатся спать плохо одетыми, в скверном жилище, голодными». Он говорил, что страдания Христа связаны с условиями человеческой жизни. Никогда не слышала, чтобы их объясняли как простое следствие его человеческой природы, а не как элемент его миссии Спасителя. Еще пастор говорил о том, что нам необходимо искать смысл, и молился за то, чтобы мы умели найти смысл и в повседневном, и в героическом. Боже, как же это тронуло меня, с моей постоянной жаждой поиска смысла.
И все-таки, даже слушая проповедь, я чувствовала: во мне произошел переворот. Слово «смысл» теперь значит для меня не совсем то, что раньше, — отсутствие его больше не заставит меня чувствовать себя несчастной и разочарованной, его поиски больше не смогут лишить меня покоя и его потеря больше не заставит бросаться на новые поиски. Думаю, дело в том, что я стала относиться к себе с большим сочувствием. Я стала мягче воспринимать жизнь и человеческий удел. Это тот шаг на пути мудрости, о котором я говорила Кену. Впрочем, иногда, когда я рассказываю другим о переменах, которые со мной произошли, я не уверена, что это правда: может быть, я хвастаюсь, всего лишь надеюсь на то, что это правда, утверждаю, что что-то произошло, хотя на самом деле это еще не так? Чувство, что это правда, ощущение, что я действительно не притворяюсь, становится сильнее, когда я пишу или говорю о вещах, которые меня беспокоили раньше, так, словно они беспокоят меня по-прежнему, — тогда я чувствую, что во мне уже нет прежнего отчаяния и горечи. Я не пытаюсь никого убедить в том, что меняюсь к лучшему, я та же, что и прежде: ворчу, жалуюсь, жалею себя — но только жалобы становятся слабее, мое сердце им уже не принадлежит, и мне самой становится скучно от собственных слов. Вот тогда я действительно понимаю, что двигаюсь вперед и оставляю позади то, с чем прожила так много времени.