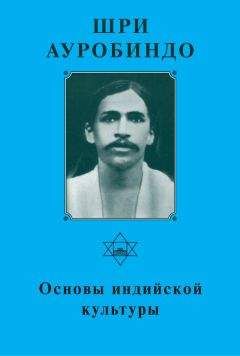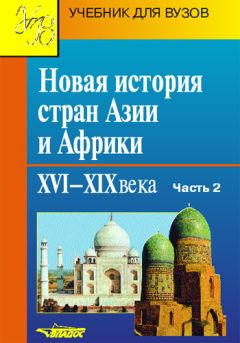Когда та дивная красавица была усмирена кувшином вина и изъявила свою покорность, осторожный шах сначала прильнул к ее устам, крепко сжав ее в объятиях, насладился сладостным сахаром ее ротика, потом натянул поводья горячего скакуна, скакавшего на арене наслаждения, и вонзил шпоры. Он обманул своего нового друга спокойным бегом, а затем внезапно погнал коня со стальными копытами по водоему из белого серебра, словно мяч желания по полю наслаждения, и заставил фисташку улыбнуться ударом острого кинжала.
Шах с китайского портрета сбросил шелковый платок,
У шкатулки драгоценной золотой сломал замок.
Жемчуг, встретившись с рубином, был просверлен, и тогда
В океане стихли рыбы, в небесах зажглась звезда.
Бахравар-бану обижена тем, что Джахандар резвится с татарской газелью. От чрезмерного горя ее румяные щеки желтеют. Она отправляется в пустыню от скорби и селится там, где ее сопровождают горести и печали
Бахравар— бану жила с Джахандаром, не деля ни с кем его любовь и не зная, что такое вторая жена. Как только она услышала о новом увлечении властелина, она стала извиваться от горя, словно змея с отрубленной головой, сладость жизни сменилась для нее горечью. Но она была женщина воспитанная и не захотела говорить с Джахандаром об этом, от горя она стала кусать собственное сердце и выбежала в сад, чтобы хоть как-нибудь совладать со своей скорбью. А в тот день цветы пышно распустились и красавица-роза покоилась в объятиях соловья, кокетничая с ним. Когда царица увидела такую картину, из ее глаз потекли слезы, а косы расплелись от огорчения. Потом она пришла в ярость, и душа ее стала чернее ее локонов, она посмотрела в гневе на лужайку, так что роза от страха перед ней перестала улыбаться и свернулась бутоном, а соловью лужайка показалась теснее сердца бутона. Горлинка перестала любоваться кипарисом, а душа соловья сгорела, словно мотылек в огне. От страха перед ней ветерок перестал веять и укрылся под розовым кустом, а лилия, которая по красноречию так часто говорит экспромтом, умолкла, словно безмолвный гребешок. Зефир превратился в настоящий ураган, и берега ручья высохли, словно уста грешника.
Вид сада не принес Бахравар-бану облегчения, она не почувствовала аромата радости и потому поспешила оттуда в степь, надеясь, что под вольным ветром пустыни распустится сжатый бутон ее сердца. Она шла, пока не прибыла к роднику, вода которого была чиста, как помыслы добрых людей, упоительна, как прохладное вино. Вокруг пышным ковром росла зелень, среди которой виднелись розы и благоухающие амброй базилики.
Ей захотелось остаться одной в той прелестной местности без друзей и подруг, чтобы делиться своей тайной только с собой, чтобы то смеяться над обманчивой судьбой, то плакать из-за ее коварства. Вода и воздух там подходили к ее желаниям, и вот она приказала своим служанкам остановиться на той лужайке и разбить там шатер и поселилась там вместе со своими доверенными невольницами, а около шатра поставила много стражников для охраны. Она сняла драгоценности с шеи и ушей, стала проводить свое время в молитвах и перебирании четок, словно праведная отшельница. В скором времени от горя и переживаний она стала тонкой, как нить, склонилась во прах, словно циновка. Но сердце ее все еще было в плену у шаха, и, несмотря на свою обиду, она оплакивала разлуку с ним и сносила горестное одиночество только из самолюбия.
Властелин, которому место на самом Кейване, узнает о состоянии заглавного листа всех сладкоустых красавиц и отправляет к ней письмо с просьбой о прощении, как подобает тем, кто ревностно идет стезею страсти
Написал я другу кровью, что, устав грустить о нем,
Каждый день разлуки нашей почитаю Судным днем
[213].
«Клянусь твоими благоухающими жасмином локонами, которые пленили своими завитками мое существо, что с тех пор, как глаза мои проливают кровавые потоки в разлуке с твоим лицом, перед которым стыдится весна, все тело мое обливается кровью и подобно кроваво-красному тюльпану. Потоки моих слез вызывают зависть у Оманского залива и срамят реку Джейхун. Ветерок тому свидетель, и даже звезды ведают о том, что каждый день по утрам бутоны смеются над моей скорбью, а по вечерам ветерок рыдает над моим одиночеством. Если те, кто взыскует тайны этого мира, прочитают в старых книгах рассказы о Парвизе и Меджнуне, а потом сравнят меня с ними, то станет очевидным, что легенды о тех безумцах любви не что иное, как ничтожная часть истории моей мучительной любви. Ведь Хосров из-за своей Ширин не видел и десятой доли той скорби, которая постигла в эти несколько дней разлуки меня, страдальца в долине любви и скитальца в степи мучений. Сам Меджнун, скиталец пустынь, всю жизнь не видывал ничего подобного из-за Лейли.
Меньше страдает свеча от огня,
Чем голова от горячего сердца.
[214]
Я никогда не ожидал, что твои волшебные глаза-нарциссы последуют примеру изогнутых бровей, избравших путь кривды, и захотят пролить мою кровь! Если причиной твоего недовольства и гнева является мой поступок, который произошел по воле судьбы, то ведь он недостоин того, чтобы о нем говорить. Подобные незначительные и не стоящие внимания действия вызываются не любовью, они не могут пробить брешь в стене подлинной любви. Ведь сердце, в котором, как в зеркале, отражена любовь моя к тебе, не может отражать страсть к каждой встречной. Я весь в твоей власти, и никто не в состоянии отнять меня у тебя.
Любовь — не случайность, ко мне не вернется покой,
Любовь — не причуда, вовек не утешусь с другой,
Я вечную страсть с материнским впитал молоком,
Душа моя стала едина с любовной тоской
[215].
Как бы там ни было, согласно изречению:
«Влюбленным нельзя не изведать печали»
[216],
я признаю себя полностью виноватым, хотя и невиновен, и приношу тебе тысячи извинений и омываю самообольщение слезами своими. А теперь, как только прочтешь это письмо, каждое слово и каждая точка которого, словно мотылек и семена руты, испепелены в горниле моей пылающей груди, лучше бы тебе не придумывать отговорок, сменить гнев на милость и более не сердиться на меня. Яви моим страждущим глазам стройную пальму своего стана.
Роза, вели улыбаться глазам, —
Льют без тебя они слезы ручьями
[217].
Приди и взгляни, как за эти дни в жажде видеть тебя я уподобился ущербному месяцу, как в надежде видеть тебя исхудал, словно тростинка. Клянусь твоей головой, я немощен и слаб, словно муха, застрявшая в паутине, и, если даже муравей потащит меня за ногу, я не смогу от немощи сдвинуться с места. Я отличаюсь от невесомого ветерка только тем, что могу говорить, а мое тело отличается от песчинки тем, что может двигаться.
Жизни следы чуть заметны во мне,
Но не найдешь и недуга следов
[218].
Ради бога, скажи сама, могу ли я так жить, могу ли я так дышать? Да смягчит господь твое каменное сердце и сделает его мягким, как воск! Да сделает он твое сердце бальзамом для моей разбитой души! Да сменит он пламя твоего гнева, которое испепеляет гумно моих истерзанных помыслов, прозрачной водой благосклонности.
Жизнь подарила Лейли паланкин, который прекрасней луны.
Пусть ей подарят прекрасную мысль: Меджнуна пора навестить
[219].
Черный калам почернел от дыма, который исходит от моего сердца, и не в состоянии более что-либо выразить».
Бахравар-бану описывает свое состояние в намеках на падишахское послание
Твой добрый калам начертал только несколько строк,
Но радости большей Аллах подарить бы не мог!
Сумел он доставить мне весть о твоей доброте,
Небесный рескрипт подпиши, о прекрасный пророк.
Не смею сказать, что напрасно ты вспомнил меня, —
Быть может, в письме заготовлены глупости впрок?…
[220]
«Ко мне снизошло, словно Хумай с высот неба, царственное послание властелина всей земли. Каждое слово его проникнуто ароматом благосклонности к обездоленным. Оно осенило милостью и милосердием скромную келью ее смиренной обитательницы. Хотя я, смиренная раба божия, недостойна такой благосклонности, но поскольку весенний ветерок в одинаковой мере веет и на розы, и на шипы, дождь одинаково поит и сады, и пустыни, то и милость шаха продиктована его природной сострадательностью. Потому нет ничего странного и удивительного в том, что падишах, трон которого возносится до самых небес и величав, как Плеяды, милостив и благосклонен, словно любвеобильное солнце, к ничтожной пылинке, чаша которой на весах жизни колеблется между бытием и небытием. Разве диво, если обласкали нищего? Я же, как смиренная отшельница, в благодарность за твою милость могу отплатить тебе только молитвами, которые являются единственным благом набожных людей.