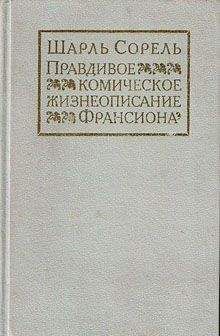Пока Франсион рассуждал таким образом, граф слушал его, не прерывая. Затем он сказал:
— Надо признать, что вам присущи благороднейшие и великодушнейшие чувства; я никогда не устану вас слушать. Вы мимоходом высказали множество мыслей, достойных быть записанными, и мне кажется, что читатели ваших книг были бы весьма рады найти в них подобные предуведомления.
— Вы очень любезны, — отвечал Франсион, — но шутки в сторону: уверяю вас, что зачастую бывает крайне необходимо предпослать своим произведениям такие предуведомления или предисловия, ибо в них иногда высказываешь ряд особых соображений, относящихся к нашей чести. Тем не менее встречаются такие нелюбознательные люди, которые в них никогда не заглядывают, не зная, что автор обнаруживает свойства своего ума скорее там, нежели в остальной части книги. Я спросил как-то одного глупца такого сорта, почему он не читает предисловий. Как выяснилось из его ответа, он думал, что они ничем не отличаются друг от друга и что достаточно раз в жизни прочитать одно из них; ибо все они озаглавлены «предисловие», а поскольку заглавия одинаковы, то таково же должно быть и содержание. Тем, кому попадутся в руки мои книги, надлежит поступать иначе, если они хотят, чтобы я хоть сколько-нибудь их уважал; пусть всегда читают мои предисловия, ибо я стараюсь помещать туда только рассуждения, служащие для какой-нибудь цели.
— Я никогда не буду в числе тех, кто от этого уклонится, — заявил Ремон, — но скажите мне, что представляет собою ваша последняя книга.
— Это забавный случай, — возразил Франсион, — книга готова, и тем не менее еще не написано ни строчки. Знайте же, что она является весьма едкой сатирой против лиц, о коих у меня есть основание говорить откровенно; а так как стиль ее весьма необычен и трудно подыскать для этой вещи вполне подходящее заглавие, то я назвал ее «Книга без заглавия». Это будет одновременно заглавие и не заглавие, но оно вполне уместно для такого причудливого произведения. Тема, которую я в нем развиваю, заключается в разоблачении жизни и пороков высокопоставленных особ, корчащих из себя серьезных и степенных людей, но являющихся сущими лицемерами. Поскольку эта книга носит название, не имея такового, я придумал еще одну забавную штуку, а именно: я предпошлю ей посвятительное послание, которое не будет посвятительным, или по меньшей мере посвящу ее не посвящая. Вот в чем заключается моя выдумка: на второй странице будет стоять прописными буквами К СИЛЬНЫМ МИРА СЕГО в качестве некоего обращения, посвятительной эпистолы, а затем в точности последуют такие слова:
«Я написал это послание не для того, чтоб посвятить вам свою книгу, а для того, чтоб уведомить, что я вам ее не посвящаю. Вы скажете, что не велик, мол, подарок — описание кучи дурацких поступков, которые я подметил; но почему не дали вы мне повода повествовать о прекрасных деяниях и почему бы мне не осмелиться говорить о том, что другие осмеливаются делать? Я слишком откровенен, чтоб утаивать правду, и если б у меня было достаточно досуга, то пополнил бы свою книгу жизнеописанием множества лиц, которые непрестанными дурачествами словно домогаются места в этой истории. Если те, о коих я уже говорил в своих сатирических произведениях, не признают, что я часто выставлял себя в качестве первой мишени, и не захотят смеяться вместе со мной над тем, как я их описал, а пожелают разыгрывать обиженных, то знаете ли вы, чего они добьются? Они добьются того, что все будут знать, в кого я метил, тогда как до сих пор это оставалось неизвестным, а кроме того, они побудят меня впредь не скрывать их имен, поскольку они сами себя выдали. Полагаете ли вы, что человек такого склада будет очень заботиться о том, чтоб посвящать свои книги, и что я, обожая только божественные совершенства, стану унижаться перед кучкой людей, коим надлежит благословлять судьбу за ниспосланные им богатства, прикрывающие их недостатки? Да будет вам ведомо, что я смотрю на мир исключительно как на комедию и что ценю людей постольку, поскольку они хорошо играют порученную им роль. Тот, кто родился крестьянином и живет честной крестьянской жизнью, представляется мне более достойным похвалы, нежели тот, кто родился дворянином, а поступает не по-дворянски, таким образом, уважая всякого за то, что он собой представляет, а не за то, чем он владеет, я отношусь с одинаковым почтением к тому, кто отягощен бременем важных дел, как и к тому, кто несет на спине бремя вязанки дров, если оба они одинаково добродетельны. Я слишком почитаю истину, а потому верю, что существуют люди, столь же прославленные своими достоинствами, как своим происхождением и богатством, и что наш век не настолько одичал, чтоб среди вас не нашлось кого-нибудь, кто бы уважал добро; пусть же те, кто причисляет себя к сторонникам добра, впредь проявляют эту склонность отчетливее, нежели прежде, и тогда я обещаю не только посвящать им книги, но готов жить и умереть, служа им».
Вот послание, с которым я обращусь к сильным мира сего и которое, однако, не является посланием или по крайней мере может быть названо не столько посвящением, сколько отказом от посвящения.
Очень забавно и очень смело, — сказал Ремон, — и это никого не оскорбляет, ибо вы обращаетесь не к добродетельным людям, и не к ним относятся ваши нападки. Но когда же вы всерьез засядете за работу?
Полагаю, — возразил Франсион, — что через несколько дней занесу на бумагу свое последнее произведение, но не пущу его в публику, равно как и свое полное жизнеописание, над коим я буду работать, когда достигну той гавани, куда стремлюсь. Мне вовсе не хочется себя стеснять; я пишу только для собственного развлечения и, прежде чем засесть, вынимаю лютню из чехла, а затем, написав страничку, играю, прогуливаясь по горнице, дабы музыка служила мне интермедией, как в комических пьесах. Вот как я работаю и при этом не кусаю ногтей, раздумывая над своим сочинением. Но стоит ли сообщать потомству произведения, которым было посвящено так мало труда? Если я и поступал так раньше, то довольно часто в этом раскаиваюсь; мне хочется, чтоб только ближайшие друзья видели мои будущие труды.
— Готов утешиться, — сказал Ремон, — лишь бы я оказался в их числе, но надеюсь, что вы меня не забудете.
— Честное слово, любезный друг, — отвечал Франсион, — вы говорите слишком серьезно о предмете, который того не стоит. Не стану вводить вас в заблуждение. Знайте же, что я вовсе не такой великий писатель, за какого выдавал себя шутки ради с того времени, как мы встретились с вами во Франции. Все это больше видимость, нежели дело. Я знаю наизусть несколько произведений своих друзей, каковые нередко цитирую, и когда подносил что-либо вельможам, то либо пользовался чужими трудами, либо у меня ничего не выходило путного. Да и где было такому бедному кавалеру, как я, приобрести столько познаний? Это дело для записных писак, которые ночуют на Парнасе.
— Недурная уловка, — заметил Ремон. — Не предполагаете ли вы этим способом отбояриться от того, чтоб показать мне свои произведения?
— Раз вы этого хотите, — возразил Франсион, — то я покажу вам все, что напишу, хотя эти вещицы и недостойны внимания такого человека, как вы.
Насколько известно, Франсион обладал гораздо большими дарованиями, нежели притворялся: он мог выполнить в короткое время то, что предпринял. Но, правда, переживал он тогда такую пору, когда не столько ему надо было писать, сколько о нем. И действительно, ум его был занят совсем другими мыслями: видя, что Гортензиус нисколько не меняется и по-прежнему заражен безмерным самомнением, он решил развлечения ради сыграть с ним забавную штуку. Он сообщил о своем намерении Ремону, дю Бюисону и Одберу без коих не мог бы его осуществить, а для большего успеха этой затеи привлек также четырех весьма приятных в обхождении немецких дворян, с которыми свел знакомство, но которых Гортензиус еще не знал. Однажды, когда этот ученый муж находился у Франсиона, вошел Одбер и сказал:
— Несколько времени тому назад в Рим приехали поляки; не известно ли вам, для какой цели? Говорят, что умер их король, но я не слыхал, кого именно выбрали ему в преемники; вероятно, какого-нибудь итальянского принца, который сейчас находится здесь.
Все присутствующие заявили, что впервые об этом слышат, а затем стали строить догадки, кому быть польским королем, и одни называли одного принца, другие другого. Так они поговорили между собой, после чего дю Бюисон нарочито отправился прогуляться по городу и, вернувшись к тому времени, когда Франсион и Дорини, а также приглашенный к ужину Гортензиус собирались садиться за стол, сказал им серьезнейшим тоном:
— Ах, господа, вы едва ли поверите тому, что мне только что передали. Действительно, здесь находятся поляки, и приехали они к тому, кого избрали своим королем. Я осведомился, кто он; мне сказали, что это некий французский дворянин, на которого пал их выбор, так как, придерживаясь весьма замечательного учения, он способен восстановить среди них справедливость во всем ее блеске и своими разумными советами возвеличить славу их оружия. Мне сообщили также, что избранника зовут Гортензиусом и что поляки весьма рады получить короля, происходящего по прямой линии от одного из консулов Древнего Рима. Вероятно, это вы, сударь, — добавил он, обращаясь к Гортензиусу.