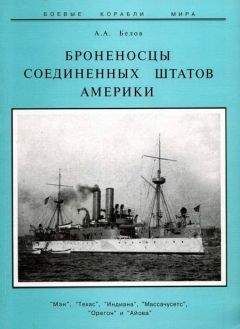Булла. Вы слышали, германцы, этого пустомелю, эту безногую и безголовую болтовню?! Вот уже бесчисленное множество лет мы пользуемся здесь нашими правами — и все же иных нечестивцев не оставляет надежда изменить существующий порядок вещей! Если бы даже это и было в их силах, им следовало подумать о славе отечества, которую они могут запятнать таким преступлением. Смотрите, как бы старинная добрая молва о вашем благочестии не оказалась испоганенной новоявленным срамом. Десятый убежден, что овцы, которые здесь пасутся, ему покорны; он слишком хорошего мнения о вас, этот пастырь, и даже приказал мне на прощание похвалить немцев за то, что среди всех народов они неизменно были самыми ревностными приверженцами апостолического престола. А между тем сегодня дела мои шли из рук вон плохо — так свирепо встретил меня этот «гостеприимец». Но если вы и в самом деле те, за кого мы, римляне, вас принимаем, то по заслугам накажете его за подобную дерзость. Да, император, я к тебе обращаюсь и хочу знать, что мне сообщить Льву Десятому: найдет ли он в тебе послушного сына?
Карл. Только если сам он — действительно отец.
Гуттен. Ты что это стараешься испортить нам юного императора, ты, мешок злодеяний? Да тебя сразу нужно было прикончить, уже за твои «шутки» с нашей Свободой, — тебя задушить, а ее спасти.
Свобода. Я говорила, что она сама лопнет, чересчур раздувшись от гнева и спеси. Вот вам, пожалуйста! Теперь я должна предупредить вас, германцы: либо отойдите отсюда, либо примите какого-нибудь лекарства, чтобы уберечь себя от ядовитого ветра, который из нее вырвется. Ведь Булла не совсем пустая внутри.
Гуттен. Совет очень важный, ни в коем случае им нельзя пренебречь. А потому — сюда, Штромер, Эбель, Коп! Здесь нужна ваша помощь. Δότε προφυλαϰτιϰόν τι[216], заранее примите меры против этой напасти и отвратите ее от нас.
Штромер. Что бы такое прописать? Ага, вот! Пусть все поедят семян репы, размоченных в сельдерейном соке, а потом надо разжевать корень ангелики{950} и подержать его во рту.
Свобода. Ну, Булле пришел конец: лопнула как раз посредине. Но смотри-ка, из нее вываливается целая куча опаснейшей дряни, вытекают смертоносные яды! Давайте поглядим, что там такое.
Гуттен. Вот Вероломство, обычный порок всех куртизанов, вот жалкое Тщеславие. А вот и Алчность показалась — с утробою почти совсем пустою, а ведь сколько раз мы ее набивали, эту утробу! — и ее служанки Индульгенции, удивительно ничтожные создания! Вот Хищение, Беззаконие и рядом с ними Разбой. И Клятвопреступление тоже здесь — римляне высоко его чтут. А как торжественно выставляют себя напоказ Поповское чванство, мнимая Папская святость и достопочтенное Лицемерие! Здесь и Суеверие, и Притворство, и тысячеликий Обман, и все виды Хитрости, и Хвастовство с Бахвальством, и то, что во всех отношениях омерзительно, что отталкивает с первого же взгляда, — Роскошь, Хмель, Пьянство и многообразная Похоть. Нет, эта Булла непременно должна была разорваться: она не могла дольше удерживать в себе столько пороков. Теперь, когда она подохла, как ей и полагалось, вам следует о том позаботиться, немцы, чтобы истребить всех до единого куртизанов, которые недавно выступили в ее защиту и с немалым усердием старались ее спасти. За дело же, и будьте свободны! А я похороню здесь Буллу и напишу на могиле эпитафию:
«Здесь безрассудная Булла покоится папы-тосканца:
Гибель готовя другим, смерть повстречала сама».
Ульрих фон Гуттен
«Булла, или Крушибулл»
Собеседники: Гуттен, Купец и Франц
Гуттен. Ну, погоди, сейчас я вырву твой преступный язык — злобный, злоречивый!
Купец. Здесь, в вольном городе, и к тому же в освященном месте? Нет, здесь ты меня и пальцем не тронешь!
Гуттен. Здесь — нет, это верно, но попробуй только высунуть нос за ворота. Ты что это, порочить доблестных мужей вздумал, ты, наглец, висельник, душегуб, а?
Купец. Уймись, дружок мой разбойничек, и помни: здесь рук не распускай, если не хочешь, чтобы их тебе связали в другом месте.
Гуттен. Ты свяжешь мне руки, отвечай, злодей, ты заставишь меня действовать вопреки моему желанию?!
Купец. Действовать — нет, а перестать — заставлю незамедлительно: вот только донесу на тебя бургомистру. Что это, в самом деле, за угрозы насилием?
Гуттен. Пусть весь мир узнает, что ты дерзнул сказать, а я — сделать! Я хоть раз тебя ограбил? И вообще: найдется ли такой человек среди тех, что живут сейчас или когда-нибудь жили на свете, у которого я похитил бы имущество?
Купец. Ну, так еще похитишь: знаю я вас, рыцарей.
Гуттен. Ах ты, злейший из недругов! Ты думаешь, что я так тебе и спущу твою глупую брань?
Купец. Я готов повторить еще раз: от вашего сословия — все беспорядки в Германии, из ваших рядов, и только из ваших, выходят разбойники, которые хозяйничают на дорогах, угрожают путникам и повсюду открыто бесчинствуют, в том числе, по-видимому, и ты, ибо рыцарским духом, как я посмотрю, ты наделен не хуже всякого другого. Может быть, по этому случаю, ты разорвешься от злости, не сходя с места?
Гуттен. Я-то не разорвусь, зато тебя, если буду жив, разорву в клочья за эту наглость: из-за преступлений одного или нескольких людей ты оскорбляешь все благородное сословие! Тебе недостаточно пожаловаться на тех, которые причинили тебе зло или принесли убытки, — ты бранишь всех подряд, и виновных и невиновных, и при этом лжешь вдвойне — и потому, что среди разбойников можно встретить не только рыцарей, и потому, что не все рыцари разбойничают.
Купец. Попробуй поднять на меня руку, ну, попробуй!
Гуттен. И попробую, если не прекратишь хулить рыцарей. Смотри: еще одно подобное словечко — и тебе не помогут ни этот вольный город, ни святое место!
Купец. Но, но, потише!
Гуттен. Ты еще надо мною смеешься, бездельник, проходимец, ничтожество?!
Купец. А что ж, плакать ты меня пока не заставил.
Гуттен. Ну, так сейчас заставлю! Говорю тебе по правде, по истине, по совести, если ты не опомнишься и не обуздаешь свою наглость, то сначала я отхлещу тебя по щекам и расквашу всю рожу, потом кулаками вышибу зубы, один за другим, потом пересчитаю ребра, но так, что чуть не каждое захрустит, и, наконец, вываляю в грязи да тут и брошу — обессиленного, полумертвого, обосравшегося целыми фунтами перца и полуунцией шафрана!
Франц. Перестаньте или уйдите отсюда куда-нибудь! Я же должен обратиться к Гуттену и предупредить его, чтобы он, отдавшись, как я вижу, во власть гнева, не совершил чего-либо недостойного: что бы там ни вывело его из себя, но он уж слишком распалился. Что с тобою, мой милый Гуттен? Неужели ты позволишь гневу овладеть тобою настолько, что не оставишь места для разума, забудешь о своей чести, о том, что ты мужчина?!
Гуттен. Забуду, гостеприимный мой хозяин, если и дольше буду терпеть его речи, которые ни один мужчина терпеть не должен!
Франц. Что же это за речи и кто этот человек? Мне бы хотелось убедиться, что ты не зря так взволнован и не без основания разгневан.
Гуттен. Сейчас убедишься. Это Купец, слуга Фуггеров. Речь у нас шла об указах, решениях и постановлениях последнего Имперского собрания, и, когда кто-то между прочим заметил, что Карл поклялся положить предел грабежам, умиротворить Германию и разом покончить с разбойниками, — он тут же принялся хулить наше сословие, назвал германских рыцарей грабителями Германии и выразил надежду дожить до того дня, когда все рыцарское сословие целиком исчезнет с лица земли. Даже твои подвиги он называет обыкновенными разбоями и до того дошел в своей наглости, что не делает различия между негодяями и честными людьми и не принимает во внимание ни лица, ни обстоятельства.
Франц. Если это правда, ты поступаешь слишком дерзко и отнюдь не справедливо. Ибо, что касается меня — не стану оправдываться подробно, но знает Германия, знают соседи, и даже в хрониках и анналах записано, что я никогда и никому не чинил обиды без предварительного объявления войны.
Купец. Но я скажу больше: нужно запретить вам объявлять войну кому бы то ни было, а иначе ты всегда будешь грабить под этим предлогом и всегда найдешь себе отличное оправдание.
Франц. Как? Ты хочешь сказать, что нам нельзя ни воевать, ни объявлять войну?
Купец. Да, вот именно. Без согласия и одобрения князей — нельзя!
Франц. Тогда ответь мне на один вопрос: знать имеет право на существование?