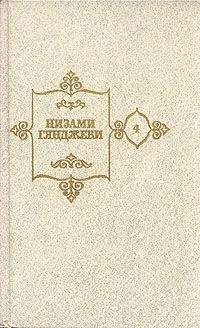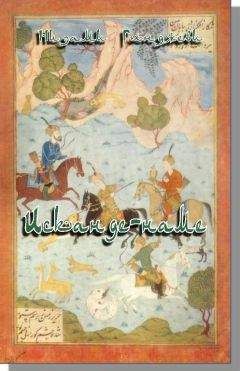Шапур второй раз едет за Ширин
Хосров во время пира сообщает Михин-Бану весть, принесенную ему Шапуром. Он решает отправить Шапура в свой родной город за Ширин. Шапур уезжает. Он находит Ширин в построенном для нее замке и поражен тем, что замок стоит среди бесплодных скал. Ширин рассказывает ему о кознях наложниц Хосрова. Ширин и Шапур отправляются в Берда'а.
Хосров узнает о смерти отца
Чуть опьяненный шах вздремнул; мечтает он:
Его благой удел свой позабудет сон.
И вот спешит гонец, и вот он в шахском стане,
И развернул Слону рассказ об Индостане.[179]
«Где шах? Один взирай на все его края.
Ему лишь посох дан, уж нет ему копья!
Владыка мира, верь, уж не увидит мира,
А ты — владычествуй, тебе дана порфира».
И приближенные, а было их не счесть,
Друг другу не сказав, ему послали весть.
«Остерегайся. В путь сбирайся во мгновенье.
Мир выскользнет из рук, опасно промедленье.
Хоть в глине голова, — ты там ее не мой.
Хоть слово начал ты, — умолкни, как немой».
Когда Хосров узрел, что дней круговоротом
Он трону обречен и горестным заботам,—
Постиг он: с и́ндиго хранит поспешный рок
Бакан, и уксус дней от меда недалек,
И воздух, что родят земли неверной долы,—
То шершня кружит он, то в нем летают пчелы.
Опала, почести, любовь, и злость, и яд
С напитком сладостным — все это дни таят.
Земля! Какой ручей ты не засыплешь прахом?
Твой камень много чаш одним ломает взмахом.
Кто скован бытием — идет путями бед.
Покой — в небытии. Пути другого нет.
Брось на ветер скорей свой груз напрасный — душу!
Замкни темницу зла, моря забудь и сушу.
Весь мир — индусский вор; чтоб он не отнял кладь,
Чтоб не скрутил тебя — с грабителем не ладь.
Знай, в этой лавочке ты не отыщешь нитки
Без колющей иглы, лишь иглы в ней в избытке.
Вот тыквенный кувшин, вода в нем что кристалл.
Что ж от водянки ты, как тыква, желтым стал?
Деревьям лишь тогда в весенней быть одежде,
Когда все почки их разломятся, — не прежде.
Пока не сломит рок согнувшийся хребет,—
Он снадобья не даст для исцеленья, нет!
Наденешь саван ты, зачем же — молви толком,—
Как шелковичный червь, ты весь облекся шелком?
Зачем роскошество — носил бы полотно.
Тебя в предбаннике разденут все равно.
В простой одежде будь, она пойдет с тобою,
Пока ты бродишь здесь, дорогою любою.
Ты отряхни подол от множества потреб,
Доволен будь, когда один имеешь хлеб.
Творить неправду, мир, намерен ты доколе?
Тебе — веселым быть, мне — корчиться от боли?
Я в горе — почему ж твой слышится мне смех?
Я свержен — и тебе я не хочу утех.
Ты продаешь ячмень, а нам кричишь: пшеница!
В пшенице той ячмень сгнивающий таится.
Пшеницы я зерно, и желт я, как ячмень,
Пшеницы вкус забыл, измолот что ни день.
Довольно предлагать да прибирать пшеницу!
А мне — быть жерновом, перетирать пшеницу!
Была б ячменная лепешка, хоть одна,
Я разговлялся б ей, как по ночам луна.
О Низами! Из дней уйди ты безотрадных,
Весь этот грустный мир оставь для травоядных.
Питайся зернами да езди на осле.
Ты жди Исы, томясь в земном, житейском зле.
Ты — ослик. Вот и кладь! Одну ты знай заботу.
Ведь ослики — не снедь. Их ценят за работу.
Хосров восходит на трон отца
Когда промчалась весть, что царствованья груз
Велением творца сложил с себя Ормуз,
Шах, в юном счастии не ведавший урона,
В столице поднялся на возвышенье трона.
Хоть в мыслях лишь к Ширин влекла его стезя,
Все ж царство упустить наследнику нельзя.
То государства он залечивал недуги,
То взоры обращал он в сторону подруги.
И за строительство его уж люди чтут,
Уж много областей он охранил от смут.
В несчастья вверженных залечивалась рана:
Шах справедливостью затмил Ануширвана.
Но вот закончились насущные дела,
Опять к любви, к вину душа его влекла.
Мгновенья не был он без чаши, без охоты.
Когда ж он о Ширин вновь полон стал заботы —
Спросил придворных он, что слышали о ней.
Ему ответили: «Уже не мало дней,
Как из дворца, что там, где сумрачно и хмуро,
Она умчалась прочь. С ней видели Шапура».
Круговращеньем бед внезапно поражен,
Шах небо укорял. Но что мог сделать он?
Воспоминания он предавался негам,
И черный конь прельщал его горячим бегом.
Как ночь его Шебдиз, ну, а луны — все нет!
Он камнем тешился, но помнил самоцвет.
Шапур привозит Ширин к Михин-Бану
Ширин в ее края примчал художник снова,—
Но встреча не сбылась: там не было Хосрона.
С Гульгуна сняв Ширин, в цветник Михин-Бану
Ее он снова ввел, как светлую весну.
И снова гурия меж роз родного края
Дарила свет очам, огнем очей играя.
И приближенные, и слуги, и родня,
Которые давно такого ждали дня,
Увидевши Ширин, ей поклонились в ноги,
И, прахом ставши, прах лобзали на дороге.
И благодарственным моленьям и дарам
Предела не было, и был украшен храм.
А что с Михин-Бану? Да, словно от дурмана,
Ей тесно сделалось в пределах шадурвана,[180]
Как сердцу старому, что стало юным вновь,
Что мнило умереть, а в нем взыграла кровь.
Беглянки голову Бану к себе прижала —
И пробудился мир, и начал жить сначала.
Как ласкова Бану! Какой в ней пламень жил!
Ну кто хоть в сотне строк все это б изложил?!
Введя Ширин в простор дворцового предела,
Ей предложила все: «Что хочешь, то и делай!»
Покровами стыда ей не затмив чела,
Ей омрачить чела печалью не могла.
Ведь понимала все: ее побег — сноровка
Неопытной любви, влюбленности уловка.
И в шахе виделись ей признаки любви.
Ей шепот лун открыл огонь в его крови.
Вино бродящее укрыть она старалась,
Свет глиною укрыть[181] — хоть солнце разгоралось.
Бану твердит Луне: «Покорной надо стать,
Домашний, тихий мир, как снадобье, принять».
И с ней она нежна и создала — в надежде
Все прошлое вернуть — все то, что было прежде.
И снова куколок, прекрасных, как весна,
Дано ей семьдесят, — чтоб тешилась она.
Круговорот небес, что кукольник, баюкал
И пробуждал к игре сереброгрудых кукол.
Ширин, увидев их, — как прежнею порой,
Луною рассекла веселый звездный рой.
Вновь у себя Ширин. Как праздник новоселья —
Опять открыл базар досуга и веселья.
Бегство Хосрова от Бехрама Чубине[182]
Победы ключ сверкнул и грозен стал: могуч
Рассудок — золотой преодолений ключ.
Рассудок победит могучих с их мечами.
Венец, прельщая всех, царит над силачами.
Лишь разуму дано тьму воинов смести,—
Мечом ты их сметешь не больше десяти.
На трон взошел Парвиз. Все помыслы Бехрама
К Парвизову венцу влекли его упрямо.
И он схватил венец, когда к нему простер
Он руку ловкую. Был ум его остер.
И клевету творить Бехраму — не в обузу,—
Он всем шептал: «Хосров пронзил глаза Ормузу»,[183]
Хоть знал он, что, когда Юсуф умчится вдаль,
Якубу — света нет[184]: все затемнит печаль.
Он тайно разослал посланья людям разным,
Благое исказив рисунком безобразным.
«Ребенку ли владеть вселенной суждено?
Отцеубийце быть владыкой не дано.
Ста братьев кровь прольет он за глоток напитка,
Напитка, что в домах имеем до избытка.
Арфисту — царство даст: над арфами дрожит.
Что царство! Песнею он больше дорожит.
Горячий — он путей к делам не примечает,
Незрелый — он добра от зла не отличает.
Клеймо любовных игр горит на нем. И страсть
К неведомой Ширин над ним простерла власть.
Злой, обезглавливать за малое готовый;
Утратив голову, не обретают новой.
Оковы бы сковать, чтоб им греметь на нем!
Исправить бы его железом и огнем!
Пусть покорится нам! Не покорится — верьте,
Отцеубийцу нам предать разумней смерти.
Ему закройте путь, нежданный меч воздев,
И знайте — я иду, могущественный лев».
Вот так-то этот лев, взыскующий признанья,
Свел шахских подданных с дороги послушанья.
И видит шаханшах — счастливый рок смущен,
И подданных своих в смятенье видит он.
И силу счастья он крепил казной златою,
И слепоту врага он множил слепотою.[185]
И так тянулись дни. Но враг привел войска,—
И тотчас поднялась восстания рука.
Опоры не было — был сломлен трон Парвиза,—
И с трона пересел он на спину Шебдиза.
От вихрей, взвившихся из-за камней венца,
Он голову унес: она ценней венца,
Уж венценосца нет. Владычества порфира
И мира — брошена возжаждавшему мира.
Когда по воле звезд узрел смятенный шах
Меча Бехрамова над головою взмах,—
В сей шахматной игре, что бедами богата,
Без «шаха» для него уж не было квадрата.[186]
С уловок сотнею, свой потерявши сан,
По бездорожию проникнул он в Арран.
Оттуда он в Мугань направился: в Мугани
Жила Ширин; в сей храм свои понес он дани.
Встреча Хосрова и Ширин на охоте