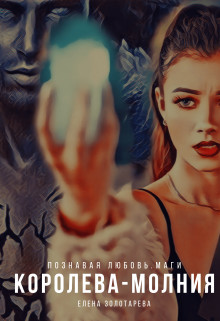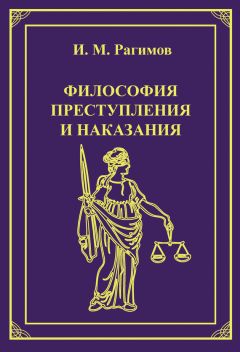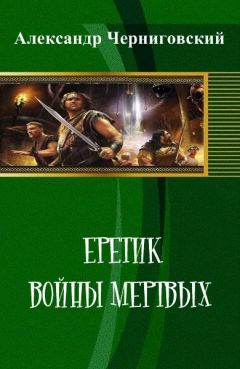ее голос и сделавший его надтреснутым:
– Что «зачем»? Он поверил и решил, что я забыла и разлюбила его? Это не так! Это чудовищная ошибка, и я хочу ее исправить как можно скорее! – Элиза попыталась смягчиться, не понимая толком, кого из них двоих собирается успокоить. – Я бы хотела поговорить с Вивьеном. Если он захочет со мной разговаривать, конечно. Если он уже не хочет иметь со мной никаких дел, то, может, согласится хотя бы выслушать…
Ренар молчал, отчего-то избегая смотреть на нее. На почтительном расстоянии от них проходили редкие прохожие, ветер гнал по каменистой мостовой темные жухлые листья и пыль, поднимая ее к серому, затянутому облаками небу. Ветер пускал волны по скромному платью и плащу Элизы, развивал подол сутаны замершего Ренара и трепал падающие ему на лицо волосы. Элиза отметила, что светлые пряди отросли, опускаясь ему на глаза, но он не отстригал и не убирал их. Как будто не замечал, что они мешают смотреть вокруг.
– Ренар, – обеспокоенно обратилась Элиза, видя, что с каждым ударом сердца он все глубже погружается в свои мысли. – Я вернулась в Руан и не собираюсь больше никуда убегать. Я догадываюсь, что то, как всё… закончилось в прошлый раз, причинило боль вам обоим. Поверь, мне это причинило не меньше страданий. Но я все же очень рада вернуться и рада, что встретила тебя сразу же, как пошла в город. Прошу, скажи мне, где Вивьен! Как мне его увидеть, когда встретиться, чтобы не помешать его делам? Может, подождать на постоялом дворе? Или здесь, рядом с отделением? Я бы не хотела привлекать к себе внимание, но если ему так удобнее…
– Ты не сможешь с ним поговорить, – глухим голосом сказал Ренар, все еще избегая смотреть на нее.
– Почему? – похолодела Элиза. Что-то тяжело сдавило ей горло, но она постаралась взять себя в руки. – Он… не хочет видеть меня? Или он в отъезде? Или с другой женщиной, что разозлится при моем появлении? Он…
Ренар отрицательно качнул головой, поджав губы. Элиза почувствовала, как ее сердце начинает биться чаще от тревоги, ведь она никогда прежде не видела на лице этого человека такого мучения.
– Но почему же тогда?! Ренар! – Она повысила голос, невольно сжав руку и вцепившись в рукав его сутаны.
Ренар, наконец, пошевелился. Повернувшись, он накрыл ее ладонь своей и серьезно, с небывалой горечью проговорил:
– Ты не сможешь с ним встретиться, Элиза. Его нет.
– Как нет? Куда же он делся?
– Он мертв.
Элиза не сразу смогла осмыслить то, что услышала. А когда поняла, лишь недоверчиво мотнула головой:
– Что? – Этот вопрос прозвучал не громче шелеста ветра. А затем ее голос вновь начал набирать силу: – Ты, верно, шутишь. Вы решили меня разыграть, да? Это такая…
– Не шутка, – строго ответил Ренар. – Ради Бога, Элиза, стал бы я так шутить?! Вивьен Колер мертв. Он был казнен за хранение запретной литературы, впадение в ересь и другие преступления перед Церковью.
Элиза слушала его, приоткрыв рот, словно он произносил слова на малознакомом языке.
– Ренар, что же ты такое говоришь? – Она помотала головой, глядя на него со смесью страха и осуждения.
– Я говорю, что Вив был казнен за ересь, – мрачно повторил он. С каждым разом эти слова пытались укорениться в голове Элизы, но сердце отчаянно отвергало их.
– Ересь? Этого не может быть! Вивьен не… Он не еретик, никогда им не был, ты знаешь это не хуже меня! Кто мог казнить его за то, чего не было?
– Я казнил.
– Что?! – Элиза решила, что ослышалась, но невольно сделала шаг прочь от молодого инквизитора, заставив его поморщиться, словно от боли.
– Я… мы сожгли его на заднем дворе тюрьмы. Так было нужно, хотя я, – он осекся, проглатывая тяжелый ком, – я этого не хотел. Он был еретиком и преступником, его вина доказана. Я знаю, тебе сложно в это поверить. Я тоже не верил, пока самолично не услышал признание. Но это правда. И постарайся не произносить громко его имя, особенно вблизи отделения. И свое тоже пореже называй. Привлечешь внимание, а ты этого, кажется, не хотела.
Ренар пронзительно и строго посмотрел в глаза Элизе, надеясь, что она не позволит эмоциям, которые вот-вот должны были нахлынуть на нее, затмить разум.
– Этого не может быть, – беспомощно повторила Элиза.
Она ждала, что Ренар все опровергнет. Что это жестокая шутка, наказание за ее побег, сговор с Вивьеном, какая-нибудь проверка – да что угодно! Что угодно, только не беспощадная правда, принять которую она была не в силах.
– Ренар, я не верю, – упрямо покачала головой Элиза. – Он же твой лучший друг! Я видела, как вы друг к другу относитесь. Даже будь он еретиком… ты не мог так хладнокровно… ты не мог в этом участвовать!
– Я был обязан.
Элиза похолодела. Снова это объяснение. Что за обязанность такая могла побудить Ренара участвовать в казни лучшего друга? Тем временем он продолжал:
– Если бы не я, было бы еще хуже, поверь, – вкрадчиво проговорил он, продолжая заглядывать ей в глаза.
– Нет… – прошептала Элиза, чувствуя, как неконтролируемая дрожь начинает пробегать по ее телу. Подавившись собственным вздохом, она отскочила от Ренара. – Как ты можешь так говорить? Как так вообще могло выйти? Я не могу понять, не могу поверить, это не… не…
Она осеклась, будто только теперь осознала, что никто не пытается жестоко подшутить над ней. Полные безысходной боли глаза уставились на светловолосого инквизитора.
Ренар устало вздохнул. Эта женщина – единственный во всем мире человек, который мог понять, каково тосковать по Вивьену Колеру. Единственная, с кем Ренар мог разделить поглощавшую его печаль.
«Я не имею права рассказывать. Не имею права раскрывать подробности дела. Но не все ли равно? Что это поменяет, на что повлияет? Да к черту!»
– Я объясню тебе все, но тебе придется поверить мне. Это очень непростая история. Мне жаль.
Он двинулся мимо нее, кивком указывая, чтобы она последовала за ним в более подходящее для разговоров место. Элиза, невидящим взглядом уставившись вперед, повиновалась. Она молчала, словно вмиг лишившаяся дара речи, способности мыслить и даже чувствовать. Будто вся тоска и печаль, пережитые ею за жизнь, теперь не переполняли ее, как можно было того ожидать, а перегорали вместе с душой и сердцем, оставляя лишь серый пепел и тлеющие угли там, где до этого была жизнь.
Ренар остановился под дубом на площади, чуть не задев одну из его голых ветвей, опускавшихся ниже кроны, и выругался, потерев