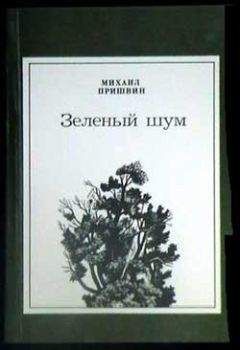за нее не даст, – объяснял торговец с улыбкой на лице. – Трубка ценна исключительно для меня, я немного переиначу ее – укорочу мундштук, вычищу нагар в камере и чуть расширю, подмаслю, обкурю с медом, – он вертел трубку в руках с жадным азартом. – Уж очень мне корень вишéньки нравится. Ты ведь знаешь, из чего она сделана?
– Вишéнька? Да, из корня, я так сразу и решил, – солгал я.
Я подумал, что целый сверток болотной травы куда ценнее неизвестной трубки, применение которой мне не выдумать.
– В общем… по рукам! – заключил я смело.
– Неет, уважаемый, – торговец помахал указательным пальцем, затем быстро убрал трубку в мешок и затянул гуляющий узел. – По рукам, – он одобрительно кивнул. – Но вижу, ты не совсем берешь в толк.
Я вгляделся в лицо торговца: оно стало исключительно важным и учтивым, будто собирался читать лекцию перед десятком товарищей.
– Это не совсем тот болотник, что мы собираем и продаем. Нет-нет. Это особенный. Встречается раз на сотню кустов. Его выделяет характерный запах и цвет, – он указал на сверток и посмотрел мне прямо в глаза. – Не все могут видеть.
– Раз он так ценен, зачем же ты отдал редкий куст за какую-то трубку, пусть и приглянувшуюся?
– Я себя не уважал бы, купи я трубку за бесценок. В какой-то мере, обесценил бы свою покупку, понимаешь? Но я знаю, сколь ценна эта вещь.
– Дело твое.
Я махнул.
– Только я прошу: сверток не продавай, сам употреби. По чужим рукам не пускай – не для каждых рук такие вещи.
– Понял.
Я принялся разворачивать кулек. Грубая бумага напрочь пропиталась болотником и давала стойкое амбре. За первым слоем обнаружился еще один, из бумаги потоньше. Расправляя второй, дал волю мысли, что торговец облапошил – сунул пучок обычного болотника, обернутый слоями бумаги.
Но третьего слоя не оказалось. А оказался там совершенно удивительный кустик засушенного болотника, непохожий на тот, что я встречал доселе.
Рифленый стебелек, полуночно-синий, что глаз не оторвать, листочки, потухшие, но отчетливые до пылинки, тоже синие (правда светлее, скорее лазурные); пара цветков, крохотных, с четырьмя лепестками на каждом и белесыми сердечниками, словно драгоценными камнями в середине.
Я достал из инвентаря ступку с пестиком, принялся готовить кустик. Размолов сушеное растение, ловко соорудил простенькую, но аккуратную закрутку из нехитрого кусочка бумаги. Закурил.
Первые секунды ничего не происходило.
Ничего и не произошло, но только спустя пару минут, я наконец понял, что смотрю на мир, а не картину неизвестного художника.
Мир вокруг не заиграл красками – он в них утонул. Были те не столь яркими, сколь сдержанными, приземистыми.
Я оценил Кухена – какое-то ожившее изваяние из дерева. Не обращал на меня ни капли внимания.
Кухен, или та деревянная фигурка, которую он теперь представлял, выглядела безжизненной, со скудным набором жестов. Пока я изучал фигурку, та успела повторить несколько движений, выполнив элементы плавно, без ошибок, как для сцены.
Я наскоро огляделся, и обнаружил, что каждый член лагеря вел себя подобно Кухену, нарочито выверяя будничные перемещения. Потом снова посмотрел на Кухена и кивнул.
Тот посветлел, как если бы над головой возникло маленькое невидимое солнце, а затем выпалил:
– Ты что натворил, болван! – рот его представлял два деревянных кусочка с нанесенными очертаниями губ и мутной щетиной. Кусочки двигались невпопад, сбивчиво. Неотстроенный механизм. Уверенности, что говорит именно Кухен, у меня не было.
– Кухен, это ты?
– Кто еще, болван?! Ты зачем это сделал? – голова Кухена вещала обвинительным тоном, не передавая эмоции как следует. Два кусочка рта чуть погнулись, изображая недовольство, а полоски бровей свисли к носу.
– Что-то выглядишь ты неважно.
– Со мной все в порядке, придурок! – говорил болванчик обычным голосом, но рот открывался фальшиво. Словно у куклы на нитках, какую озвучивают. Воспринимать Кухена оставалось сложно.
– А вот тебе сейчас не следует никуда ходить, – продолжил Кухен. – Лучше вообще оставайся, где стоишь!
– Это почему?
– Я говорил тебе, что Темные Грибы не следует мешать ни с чем, что растет в нашем лагере? Говорил??
– Кажется… Но ты не говорил с чем конкретно их не стоит мешать.
– Я же… – деревянная голова покачалась. – Ладно! Слушай сюда: что с тобой происходит, нормальным состоянием не назовешь. Оставайся на месте, я приготовлю лекарство.
Фигурка опустилась на корточки и принялась толочь что-то в ступке, которая появилась out of the blue.
Я кивнул на Кухена. Фигурка встала, как ни в чем не бывало, и снова посветлела.
– Я вижу мир совершенно иначе, он настолько… настолько отрепетирован. Я словно в картинку попал, которая движется.
– Оставайся здесь, и никуда не ходи, – заладила фигурка Кухена.
Какое странное имя, подумал я, наблюдая, как фигурка склонилась над пузатой ступкой и нерасторопными движениями принялась молоть содержимое. Я присмотрелся – в миске ничего не оказалось. Фигурка молола пустоту.
Я снова кивнул.
– Что опять?
– А что ты молотишь в ступке? Там ведь ничего нет!
– Замолчи и жди. Важно, чтобы ты не отходил, иначе потом не поймаю.
– В смысле?
– Просто стой и жди!
Я промолчал, а деревянный торговец вернулся к работе.
Я ждал, слушал мир, глядел на картинку и все не мог представить, как она работает.
Цвета переходили друг в друга, объекты двигались в картине то с привычной скоростью, то нарочито плавно. Некоторые, особенно вдали – словно бы рывками. Они казались отрывками мира, краями полотна. Вот-вот отстанут, померкнут и совсем уйдут из поля зрения, а значит – перестанут существовать.
Но подойди к ним – сразу главными станут, на первом плане красоваться будут. Как иначе?
Еще решил, что доселе не задумывался о подобном. Не представлял, как видят глаза, как мир показывает себя в них.
В остальном, все выглядело… разумно. Болванчики занимались повседневными хлопотами, выполняли нехитрую работу.
Мир шел привычно: облака так же плыли по небу, только казались плоскими, музыка тихо играла, солнце светило. Правда, лучи под определенным углом отражались предо мной, словно от невидимой преграды отталкивались. Раньше не задумывался.
Но я не поразился, не заиграло удивление, не открылось чего-то нового. Словно бы так и было прежде. Возможно, грибы притупляли чувства, и знакомая расслабленность не давала эмоциям волю.
Ужасно хотелось пройтись по миру. Потрогать ногами полотно, уйти внутрь картины, в скрытые глубины.
Я знал: проникнешь чуть дальше, и откроются новые ракурсы – заиграет солнышком трава, блеснет весело в речке водица, зашумит зверина листвой пожухлой в чаще леса, полетят квардéры агатовые, понесется заведенный ветер по опушкам, и зачерпнет жадный рот воздуха морского на бреге одиноком, что у лагеря болотного мягкими приливами ласкаем. А ночью – по холмам бродить, да мглу смотреть. Вот!
– Как ты там? Как себя чувствуешь? – поинтересовалось изваяние.
– Нормально чувствую. Только вот походить хочется.
– Никуда не ходи. Стой на месте, я почти закончил.
От того, что Кухен заладил с нехождением, уйти хотелось только сильнее: носиться по миру, отправиться смотреть на все новыми глазами. Стоять