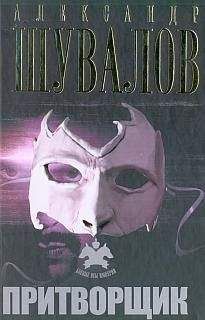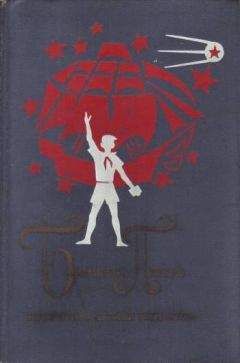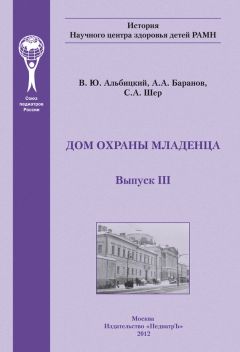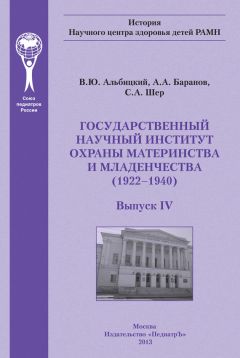– Что, Леха? – спросил Олег.
Названный Лехой подошел ко мне и выложил стопку распечатанных на принтере листов.
– Почта, сэр, – и пошел варить себе кофе.
– Но что-то же надо делать! – на экс-адмирала было совершенно невозможно смотреть без слез. Какой-то всклокоченный, осунувшийся, мешки под глазами. Прошлой ночью он явно не спал, изучая принесенный мною донос.
– Надо. И будем, – успокоил я его, – только...
– Только меня с завтрашнего дня выгнали в отпуск, – пожаловался Степаныч. – Шеф решил, что у меня усталый вид, вот и проявил заботу.
– Пытались отказаться?
– Конечно, но он даже слушать не стал. Заявил, что мое здоровье очень важно для фирмы, и запретил четыре недели показываться на работе.
– Кого оставили за вас?
– Толмачева.
– И это меня совершенно не удивляет.
– Так что же мы все-таки будем делать? – с ленинской деловитостью поинтересовался старый паркетный вояка.
– Как что? Уходим в подполье. Что касается меня лично, то с послезавтрашнего дня я планирую быть убитым.
– Типун тебе на язык! – воскликнула Даша.
– Как это, убитым? – поинтересовался ее родитель. – И кто это тебя собирается прикончить?
– Завтра я начну шустрить не по разуму, вот и найдутся желающие. Вызовут, скажем, от вашего имени на встречу и...
– Я тебя одного не отпущу, – решительно заявила Даша.
– А я и не собираюсь идти один.
– И все-таки...
– И все-таки, дорогой Андрей Степанович, мы их всех уделаем, если не будем суетиться попусту. Попрошу вас с завтрашнего дня быть постоянно на связи и почаще проверяться на предмет подслушки. Да, и не особо удивляйтесь, если я заявлюсь к вам в гости не совсем на себя похожий.
– В образе Бреда Пита? – полюбопытствовала Даша.
– В образе вождя мирового пролетариата товарища Зюганова, однозначно, – ответил я голосом русского националиста В. В. Жириновского. – Поехали, завтра будет трудный день.
– Домой? – поинтересовалась она, заводя машину.
– Почему обязательно домой? Что мне решительно не нравится в современной молодежи, дорогая, так это полное отсутствие романтики. А как же родная русская природа? Неужели не хочется за город, на свежий воздух, к родным березкам, в конце-то концов!
– Какие березки и какая, к черту, молодежь? Мне тридцать скоро!
– Тогда все в порядке, ты почти старушка, – она ощутимо ткнула меня локтем в живот, – и не надо насилия, правду не скроешь. И, тем не менее, мы едем на природу.
– Куда?
– В Валентиновку. Остановишься, где я скажу, и начнешь названивать в ворота.
– Зачем?
– А у тебя машина заглохнет. Когда починишься, будешь ждать меня на стоянке, как договорились. Задача понятна?
– Так точно, товарищ фельдмаршал!
– Не надо лести, хотя и приятно.
– Как поедем, по Ярославке?
– Лучше по Щелковскому.
– Если я правильно тебя поняла, мы едем в гости к...
– Ты правильно меня поняла.
– Круто, – она прибавила газу, – а ты действительно так трепетно любишь природу?
– Терпеть не переношу, обкормили в детстве. Видишь ли, Даша, мои родители были типичными шестидесятниками, то есть, турпоходы, «изгиб гитары желтой», палатка, костер, споры о наболевшем до утра. Веришь ли, почти каждые выходные таскали в походы по Подмосковью.
– А ты?
– А я хотел шляться с друзьями.
– Почему не отказался?
– Не мог, уж больно родители обижались. Они у меня были самыми настоящими советскими учеными, физиками по образованию и лириками в душе.
– Ты говоришь, были?
– Это не то, что ты подумала. Оба живы, здоровы и вполне счастливы в заштатном французском городке Париже. Слышала о таком?
– Даже была пару раз. А как они там оказались?
– В девяносто третьем отец был уже замом директора по науке одного из проблемных московских НИИ. Руководитель этого милого заведения к тому времени раздал половину площадей института разным фирмам в аренду. Когда он задумал закрыть основную лабораторию и отдать освободившееся помещение под кабак, папа пошел искать правду в московскую мэрию. Там ему сказали такое, что он на следующий день к чертовой матери уволился и уехал преподавать в Сорбонну, благо приглашали.
– А что ему такого сказали?
– Ничего особенного. Просто сообщили, что ни он, ни его наука обновленной России на фиг не нужны и задали риторический вопрос, типа «Когда же вы все, наконец, передохнете?»
– Как они там?
– Родители? Нормально. Когда на маман накатывает ностальгия, она идет поливать березки.
– Березки?
– Да. Она посадила несколько берез в саду, у них с папой домик в предместье.
– В Россию часто приезжают?
– С тех пор – ни разу. Кстати, мы подъезжаем, высади меня.
– А как ты собираешься...
– Много будешь знать, из секретарш выгонят.
– Я, к твоему сведению, офис-менеджер.
– Тем более.
Когда я появился в его спальне, главный «сталевар» всея Руси уже собирался отходить ко сну.
– Интересно, как вы все-таки умудряетесь ко мне проникать, – спросил он, дисциплинированно включив «антиподслушку».
– Ничего особенного, меня этому учили.
– Что-то срочное?
– Да. Сейчас я кратко опишу вам ситуацию. Настоятельно прошу не кричать, ногами не топать и кулачищами по мебели не стучать, вон они у вас какие. Перед уходом я оставлю вам диск с информацией и инструкциями. Внимательно все изучите, потом его уничтожьте.
– Я готов.
– Это радует. Итак, ваши компаньоны и соучредители Белопольский, Черняк, Ступин и Талахадзе через два дня прибывают в Москву на плановое заседание, во время которого всех вас планируют устранить.
– Что?!
– Я, кажется, просил не шуметь, или вы желаете прослушать продолжение вместе с охранниками? – и резво скакнул за шкаф. В дверь постучали, и тут же в проеме появилась голова служивого.
– Что-то случилось, Петр Николаевич?
– Все в порядке, Боря, ступай.
– Мне просто показалось...
– Это я об стол треснулся. Иди, говорю, я спать буду.
– Есть, – и голова исчезла.
– Прошу прощения, постараюсь не шуметь.
– Уж будьте так добры. Сынок вашего компаньона и, насколько мне известно, давнего приятеля Бориса Семеновича Белопольского, командующий у вас безопасностью, решил несколько изменить состав учредителей, то есть грохнуть всех вас и своего папашу в том числе.
– Чт... черт, дальше.
– Если я не ошибаюсь, Черняк и Ступин бездетны и ближайших родственников не имеют. Талахадзе холост, с родственниками близких отношений не поддерживает, слишком увлечен девками по вызову, верно?
– Верно.
– Ваша старшая дочь заведует онкоцентром, младшая – преподает в Гнесинке. Ни та, ни другая к вашему бизнесу отношения не имеют.
– И здесь вы правы.
– Еще обучаясь в Кембридже, Гриня Белопольский не только сменил фамилию на Вайсфельд, но и изрядно поголубел.
– Ну, допустим, Вайсфельдами их семейство было до конца тридцатых годов прошлого века, потом ославянили фамилию от греха подальше.
– Вы знали о его, скажем так, нетрадиционности?
– Нет, его отец мне, бывало, жаловался на его загулы, но чтоб такое...
– Значит, постеснялся сказать. Так вот, там же, в Кембридже он очень близко подружился с неким милым юношей Аланом Бойд-Симмонсом. Вам ничего не говорит эта фамилия?
– Позвольте, это же «Стилз»!
– Совершенно верно, «Стилз Индастриз» – один из ведущих мировых сталелитейных концернов, и папаша этого голубка, Гарольд Бойд-Симмонс, если мне не изменяет память, трудится там в скромной должности председателя совета директоров.
– Так вы хотите сказать, что...
– Не уверен, думаю, что детки захотели создать свою империю, вернее, захватить уже созданную.
– Чушь какая-то.
– Вовсе даже нет. Потом посмотрите распечатки их бесед друг с другом и с куратором.
– А это кто?
– Так они называют человека, который и спланировал устранение всех вас.
– Я хочу знать, кто это.
– Так, один бывший сотрудник ГРУ.
– Терехин? Не верю!
– И правильно делаете. Терехин как раз на нашей стороне. Это его ближайший помощник, некто Толмачев.
– Никогда о таком не слышал.
– Неудивительно. Очень скромный и далеко не глупый человек. Кстати, после акции он собирается кинуть своих нанимателей. Вам ничего не говорит название «УМГ»?
– Как же, Уральская Металлургическая Группа, очень серьезные люди. А к чему вы это?
– Все на диске и вообще – по окончании операции я вам столько интересного расскажу... А сейчас от вас требуется изучить инструкции и скрупулезно им следовать. И, пожалуйста, не надо никакой самодеятельности.
– Да я этих уродов...
– Безусловно. И я тоже, но чуть позже. Меня, если хотите знать, приговорили вместе с вами. Все, давайте прощаться, а то я вторую ночь на ногах.