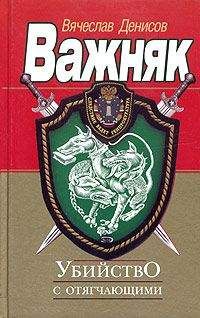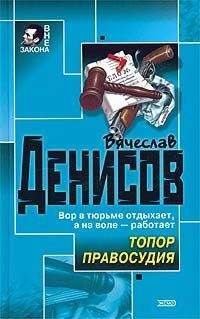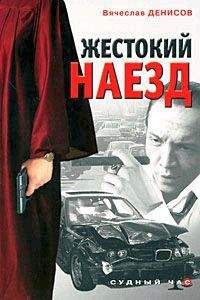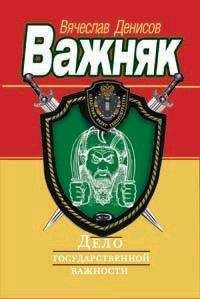Она сняла с носа очки, как уставший за день пахоты крестьянин снимает с лошади хомут – тяжело, обреченно.
– Винсент… – Взгляд арлезианки тоже потяжелел, она положила руку на его грязную ладонь. – Я плохо разбираюсь в живописи… Вы знаете это. Но поверьте мне, женщине, пожившей достаточно и видевшей много хороших и плохих мужчин. Вы лучший из хороших. И несчастнейший из самых скверных. Но простите меня, я вынуждена уйти… – Мадам Жину улыбнулась. – Вы же оставайтесь здесь столько, сколько вам захочется. Я велю мужу поторопиться с рамами, обещаю вам.
Едва она скрылась на кухне, в зал с улицы ворвался Габриньи. Пролетев как ветер, он осторожно поставил картину на стул у соседнего столика и решительно взгромоздился на другой – напротив Ван Гога.
– Я не уйду, пока вы не скажете, как сделали это.
Потерев подбородок, Ван Гог сморщил нос. От этого его лицо, словно вырубленное из камня нетрезвым камнетесом, утратило и те черты привлекательности, которые можно было обнаружить при большом усилии.
– Когда я был проповедником…
– Вы были проповедником?!
– Когда я был проповедником, старик-органист из костела заболтал меня и мы выпили с ним несколько бутылок вина. А после он стал играть на органе богохульные увертюрки Крамера. Это что-то божественное, когда на органе, поверьте, Габриньи… Так вот, перед тем, как прибывший священник выгнал меня вон, а органиста уволок к себе, чтобы учинить расправу, старик показал мне один фокус. Он поспорил со мной на пять гульденов, что сыграет на органе через сукно находящейся в храме сутаны пастора. Он накинул мантию на клавиши, и… И я не поверил, а он сыграл очередную скабрезность Крамера, и я лишился последних денег.
– Зачем вы мне рассказываете это? – Габриньи жадно ловил каждое слово Винсента и крутил меж пальцев окурок сигары.
– Затем, что для настоящего музыканта не имеет значения, закрыты клавиши или нет. Он играет, помня каждую из них пальцами. – Винсент с треском закрыл ящик. – Мальчишки смешали мои краски. И что с того? Они сделали то, что делал бы я при написании картины.
Габриньи побледнел.
– Почему же вы так страдали?
– Я страдал, потому что красками этими я мог написать пять картин… А теперь они уснут. Краски не умирают, господин Габриньи. Они засыпают… Навсегда.
– Так пишите скорее, пока они не уснули!
Винсент беззвучно рассмеялся.
– Я не могу это сделать.
– Почему?
– Мои краски смешала рука, которой водила безумная злоба. Я же, когда писал ирисы, добавил в них ненависть и обиду… Это первая картина, которую я написал с недобрым сердцем. Пусть она будет последней.
Выйдя из кафе, Винсент поспешил в художественную мастерскую, где продавались краски. Пятнадцать франков. Все они были истрачены до последнего сантима.
Поднимаясь по ступеням своего дома, Винсент вдруг понял, что рядом с ним идет беззащитный, но сильный мужчина, неразговорчивый и не лезущий за словом в карман человек. Такой все пронзительно понимающий и бесконечно глупый, наполненный противоречиями и до сих пор не научившийся противостоять соперничающим друг с другом обстоятельствам. Винсент хотел бы занять его место, но не мог этого сделать, потому что устал. И с обнажающей нервы чистотой вспыхнуло в нем желание просто сесть на стул и зарыдать. От безысходности. От тошноты за прожитый день. От того, что некому выслушать его и принять в себя хоть малую, но часть гнетущего его груза.
Нет, не о жаркой любви он мечтал, не о той любви, которой предавался с Рашель в салоне на улице Риколетт. Не искушенного страстью влечения к обнаженному телу жаждало его сердце в этот момент. Винсент думал о том, как хорошо бы встретить сейчас на пороге ту, что встретит, прижмется щекой к его щеке, поможет раздеться и поцелует. Сольет воду ему на руки из кувшина, протянет полотенце. А потом просто ляжет рядом на постель, прижавшись лицом к его плечу, обещая тем самым спокойствие и надежду.
Как волнительно и легко засыпать, когда рядом, касаясь тебя, лежит любимая женщина, думал Винсент, отпирая дверь пустой комнаты. Как, наверное, вдохновленно он мог бы проваливаться в яму сна, если бы рядом, держа его за руку и не давая упасть на дно, лежала и думала о нем та, что дороже всех на свете.
Он вошел в комнату и остановился. Распахнутые окна выплюнули наружу занавески, и ветер трепал их игриво, не срывая, но и не оставляя в покое. Кровать была разворошена. Не найдя на ней холста, мальчик из кафе искал приготовленное к ночи полотно под нею и под матрасом. Зачем-то поправив покрывало, Винсент сел на него.
За пять часов его отсутствия в этой комнате, как и за четырнадцать месяцев его жизни в Арле, как и за тридцать шесть лет жизни в этом мире, ничего не изменилось. Один. По-прежнему один в пустой и глухой комнате.
Сгорел, значит? Как не повезло. Знал бы, что не пройдет и года, как будет по ошибке казнен, бежал бы. А вдова долго не страдала. Не прошло и года после смерти отца ее двоих детей, как она вышла замуж. За одного из тех, кто ее мужа сжег. Нет, ну разве не так получается, если эту мысль творчески оформить? И что не отнимешь у нее, так это любовь к прекрасному. Даже приговором суда не отнимешь. Ее беспредельно тянет к мужчинам, страстно увлеченным живописью. Первый картины крал, второй на них часами мог смотреть из кресла.
Капитан, наверное, уже дома. А куда ему после такого аврала деваться? Принимать здоровую пищу и ложиться спать. Чтобы завтра с новыми силами приступить к поискам. Но перед сном, а также после сна, а кроме того – в перерывах между сном пусть он любуется подарком придурковатого художника с восьмого этажа злосчастного дома. Подарить он ее никому не сможет. Голландец помнит тот жадный взгляд, который шарил по ирисам. А если и подарит, то не раньше, чем закончится эксперимент. В любом случае через пару дней «Ирисы» можно будет у него забирать.
Голландец надел очки и расположился с пломбиром в сотне метров от подъезда капитана. Тут главное – не спешить. И не тормозить. Одно другого хуже.
На «Ирисы» он вышел случайно. Просматривал биографии французских частных коллекционеров и наткнулся на некую Гапрен. Коллекция полотен импрессионистов у нее была и до войны, как позже выяснил Голландец. Но после воцарения мира она заметно пополнилась. Растащив награбленное фашистами в Европе, союзники потянулись с трофеями на родину. А поскольку среди тех, кто растащил кладовые Геринга и ему подобных, настоящих знатоков и ценителей было мало, все больше мародеры, картины, золотые украшения и прочее продавалось по дороге домой. В голодной Европе любителей скупать холсты было мало, поэтому работы Рубенса, Веронезе, Мане и Кандинского сосредоточивались в руках подлинных знатоков. Именно так коллекция Гапрен и обогатилась. Старушка, похоже, намерила себе два века жизни и продолжала скупать полотна. Это имя – Колин Гапрен – стало той отправной точкой, от которой двинулся Голландец, предчувствуя удачу.
Предчувствие его не обмануло. Весь список картин Колин Гапрен занимал два листа, и по всему было видно, что бабушка гордится правом собственности на них. Но странно было то, что внизу листа короткой припиской значилось: «А также несколько полотен голландской живописи».
«Какой голландской живописи? – с недоумением подумал тогда Голландец. – Лука Лейденский? Дирк Якобс? Герард Гонтгорст? Почему это не указать?» Этот странный поступок составителей реестра коллекции и подтолкнул Голландца к тому, чтобы заняться осветлением данных о «нескольких полотнах голландской живописи».
Через два месяца он знал, что несколько – это три. Пейзаж Якоба Бакера, портрет крестьянки кисти Николаса Маса и – Голландец поначалу глазам своим не поверил – неизвестное полотно Винсента Ван Гога.
Неизвестное полотно Винсента Ван Гога!
От одной этой фразы должна пробирать дрожь. Она-то и повела его по хронике крушения и возрождения человеческих судеб. Еще через месяц он знал достоверно, что «Ирисы» Ван Гога в Москве. Осталось лишь вычислить, куда спятивший старик, вернувшийся из Франции, разбогатевший и обезумевший, спрятал картину. А он никуда ее не прятал. Подарил бабке, которая ждала его сорок лет. Бабка тоже спятила, но, прежде чем одуреть настолько, что перестала узнавать близких, подарила внуку.
Дойдя до Лебедева, последнего из обладателей «Ирисов», Голландец заметил одну особенность в своей мысленной речи. Всех, кто владел картиной, он называл то «безумцами», то «умалишенными». Не привыкший даже про себя давать кому бы то ни было такие эпитеты, он стал искать причину и вдруг обнаружил, что абсолютно прав в своих формулировках. Все, кто так или иначе властвовал над «Ирисами», были приговорены к безумию. Это не они властвовали над «Ирисами», это «Ирисы» властвовали над ними.
И картина Винсента сама решила свою судьбу. Из разряда официально разыскиваемых Комитетом – а такой статус произведение приобретало сразу, едва мысль о возможности существования чего-то великого и неизвестного закрадывалась в голову кого-то из экспертов – она перешла в разряд разыскиваемых Голландцем. А это означало приговор.