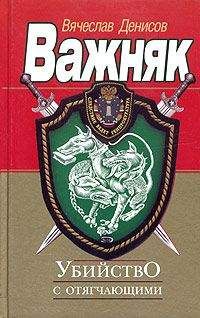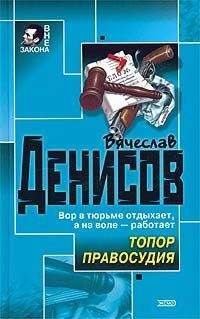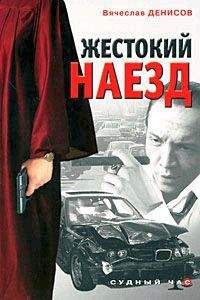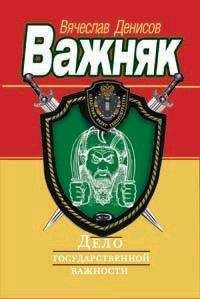– Красавчик, хочешь, я придумаю тебе рифму? – донеслось из коридора. Поскольку помимо Голландца в квартире пребывал только один красавчик, было ясно, что проститутка мазки не любит, она предпочитает рифмы.
Ответ прозвучал незамедлительно:
– Лапонька, ты бы мне лучше мартини…
– Ты голубой?
– Грубо.
Выразив свое презрение обстоятельству, при котором жить ей приходится между педерастом и придурком, проститутка громко допила мартини прямо из горлышка. В этой позе она была похожа на пионерку, звуками горна поднимающую отряд по тревоге. А после заперлась у себя. Через несколько минут в ее комнате раздался плач. Поначалу Голландец думал, что это обычное сопровождение очередной серии с участием бразильских звезд кинематографа, но сквозь рыдание прорывались слова о загубленной жизни, каком-то ребенке, а также упоминалась Москва-река как будущее постоянное место жительства.
Ночами Голландец трудился. Он готовил кисти, холст и краски для работы. Выпив на кухне стакан чаю и съев булочку, он отправлялся на работу.
Ему не нужно было торопиться на остановку или в метро. Его никто не ждал, лампу над столом в его офисе уже давно не включали. У него не было ни начальника, ни подчиненных, ни лампы, ни офиса. Выйдя утром из дома, он брел куда глаза глядят. Уже и не помнил он мест в Москве, где, держа кисть, не засиживался бы допоздна. Непереносимость запахов краски и убежденность в превосходстве пленэра выводили его на улицу и вели в направлении, в котором он не был до конца уверен. Голландец писал быстро. Четырех-пяти часов ему хватало, чтобы вернуться домой с готовой картиной. В комнате, где он жил, их скопилось множество. Пейзажи, портреты, натюрморты – ими были заставлены все углы. Они стояли вдоль стен, одна картина за другой. На такую роскошь, как рамы, средств не хватало, да и что делать потом с картинами в рамах, когда будут завешаны все стены?
Если одиночество – это когда некому пересказать сон, значит, Голландец был очень одинок. А это очень опасное для жизни и здоровья состояние человека, намеревающегося жить в Москве долго. Изредка он укладывал в самодельный чехол несколько полотен и отправлялся с ними по магазинам. Иногда ему давали денег сразу – ровно столько, чтобы на них нельзя было ни жить, ни умереть. Но все чаще картины если брали, то произносили при этом беспощадное слово «консигнация». Оно означало, что Голландцу снова придется ложиться спать голодным.
Как и в далеком детстве, обсасывая ночью черствый кусок хлеба, он мечтал уйти еще лет на десять вперед. Быть может, там, за линией жизни на ладони, он будет не так одинок и не так беден.
Сейчас у него было все. Но он хотел бы вернуться.
И не на десять лет назад, на тридцать. И поговорить с мальчиком, которого помнил и любил. Светловолосый, в застиранной рубашонке нараспашку, с созвездием рыжих гончих псов на носу, он сидел бы и сидел на пригорке за поселком. Там, где река впадает в море, а у берега качается на привязи, как прирученный кит, уставший от вековой ходьбы до северных морей и обратно огромный баркас. Еще в то время, когда мама была молода и красива, а отец силен и весел. И оба живы.
Голландец присядет рядом, накинет на его плечи, холодные от ветра, теплый, снятый с себя свитер. Спросит, как тот живет. Просто так спросит, не нуждаясь в ответе. Он знает наверняка, что мальчишка счастлив. Придвинется, чтобы силой своей успокоить его дрожь. Ему хорошо рядом с мальчишкой. В свитере Голландца, в сандалиях на босу ногу, мальчишка не заметит его и продолжит думать о своем. О том, как закончит здесь все дела и уедет из этой скучной деревни. И никогда больше в нее уже не вернется. Он уедет покорять своими картинами шумные города и страны и лет через тридцать, став старым, дряхлым и богатым, будет слушать придуманные о его картинах легенды. Станет с упоением следить, как люди из уст в уста передают обросшие преувеличениями истории его славной, состоявшейся жизни талантливого живописца. Все заработанное он отдаст родителям. И еще живые мама и отец выплывут из нищеты так же быстро, как когда-то ушли из жизни.
Милый мальчик, скажет ему Голландец, пройдет тридцать лет, и тебя неудержимо потянет на этот пригорок. С наброшенным на плечи свитером, дрожа губами от предвкушения встречи, ты поднимешься и увидишь сидящего на ветру мальчика.
Бескрайне растревоженный этим свиданием, ты сядешь рядом. И накинешь на плечи его свой свитер.
Обняв колени, вы будете смотреть, как волны лижут обглоданный льдами скелет баркаса…
Но ничего этого не случится, подумал Голландец. «Только я, я один буду подниматься на тот пригорок. И сидеть рядом с самим собой».
«Ирисы» Винсента не смогли превратить его в безумца. Он мучился над разгадкой, не подозревая, что она на виду. Нельзя войти в одну и ту же воду дважды, как нельзя быть рожденным дважды или дважды распятым.
…Голландец поднялся, отряхнул джинсы и направился к «Фокусу». В багажнике его ждал военком. Военкома ждал гризли. Густав ждал Голландца, а Густава ждал президент.
Нельзя никого заставлять ждать.