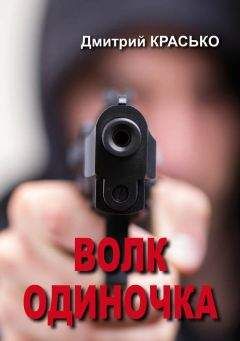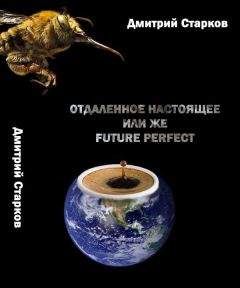Она рассмеялась.
— Ты всегда такой?
— Какой? — спросил я.
— Забавный.
— Я не забавный, — возразил я. — Я хочу, чтобы мне жизнь почаще улыбалась. Вот и стараюсь, развлекаю ее. А то что-то не добавляется оптимизма, когда она начинает делать пакости.
— Ну и как, улыбается?
— Иногда, — я кивнул. — Или это я улыбаюсь. Очень трудно разобраться.
Погода за бортом «Шевроле» была довольно-таки летная, напрасно я сбрехнул, что температура за бортом — ни к черту. Она была плюсовая, градусов около десяти. Для конца бабьего лета очень неплохо.
До дома, где до недавнего времени проживал Четыре Глаза, мы добрались за двадцать минут — он, собственно, находился не так уж далеко от Взгорка. Подогнав машину к подъезду, я сообщил Розочке:
— Все, приехали. Вынос тела, думаю, состоится отсюда.
Розочка вылезла и, дожидаясь, пока я закончу возню со всякого рода замками, запорами и прочей белибердой, встала перед машиной, чтобы налюбоваться ею в фас. И заметила выбитую фару.
— Я же говорю — трофейная, — сказал я в ответ на ее замечание. — В бою и пострадала. Гуманоид по фарам стрелял, хотел в темноте войну продолжать.
И фиг вы догадаетесь, какая была Розочкина реакция на эту реплику. Она задрожала губами, в уголках глаз сверкнули слезинки, потом подбежала ко мне, ошалевшему от такого взрыва эмоций, и бросилась на грудь.
— Это ты… чего это? — осторожно спросил я.
— Так в тебя и правда стреляли! — всхлипнула она и, притянув мою башку к себе за уши, поцеловала в лоб.
— Ну, да, — сказал я. — Я же рассказывал.
— Я не думала, не могла представить, что это правда. А тут как увидела эту фару — меня как огнем обожгло: ведь пуля могла тебе в голову попасть!
— Могла, наверное, — согласился я. — Но ведь не попала же. И вообще о таких вещах лучше не думать. Пойдем-ка наверх.
Я взял ее под руку и потащил за собой к квартире Четырехглазого. Стоять у подъезда и держать на груди прекрасную, но заливающуюся слезами шатенку, которая, к тому же, периодически выкрикивает что-то о стрельбе, мне совсем не улыбалось. И без того все соседи — и уж тем более соседки — наверняка искоса смотрели на овдовевшую Любаву и осиротевших пацанят, словно это они были виноваты в смерти мужа и отца. Так к чему провоцировать людей на еще большую подозрительность?
Как я и предполагал, тело Четырехглазого собирались выносить из квартиры. Снять фойе какого-нибудь ресторана или кинотеатра у вдовы не хватило денег, а у третьего таксопарка — желания.
В общем, когда я, ведя Розочку за собой, подошел к нужной двери, мои уши наполнились невнятным гундежом, идущим из-за нее. Я позвонил.
Дверь открылась. На пороге стоял Ян. Он, по мере рассасывания следов избиения, все более хорошел.
— Здорово, — сказал я. Но, прежде чем успел шагнуть внутрь, дверь резко захлопнулась. Этого момента я как-то не просчитал.
— Чего это он? — удивилась Розочка.
— А я им ничего про охоту не говорил. Они все думают, что я струсил и засел дома, оставив проблему на их хрупких плечах.
— А почему?
— А потому что я им ничего про охоту не говорил, — повторил я.
В этот момент за дверью послышались голоса, переговаривающиеся явно на повышенных тонах, — причем один из голосов был женским, а второй мужским, — и вход для меня и Розочки снова оказался распахнут. На сей раз дверь открыла хозяйка дома. Увидев, что я еще не ушел, она явно обрадовалась, кинулась мне на грудь, всхлипнула пару раз и, дождавшись утешительного движения моей руки по ее волосам, убежала куда-то в кухню.
Ян стоял в дверном проеме между залом и прихожей, злой и непреклонный. На меня он старался не смотреть.
Все так же придерживая Розочку под локоть, я вошел в квартиру, закрыл за собой дверь и огляделся. Гроб с телом краснел из залы, но дорогу туда закрывал Ян. Если он действительно решил не пустить меня попрощаться с Четырехглазым, то это было верхом идиотизма с его стороны. Зная меня, мог бы и догадаться, во что это может вылиться.
Основная масса голосов доносилась из кухни. Там, видимо, собрались друзья-таксисты, которые уже взялись за поминки непогребенной еще души усопшего. Из спальни тоже доносилось какое-то ворчание, но, заглянув туда, я увидел, что это всего лишь две тетки в черном, вероятно, соседки, которые старались утешить осиротевших пацанов. Те, впрочем, за малым возрастом — одному семь лет, другому пять — особо не грустили, рубали конфеты и печенье и, сидя на кровати, беспечно болтали ногами.
В кухне же действительно заседала солидная компания. Каким образом они собрались отмазываться перед директором — ума не приложу, но если сегодня хоть одна машина из третьего таксопарка бороздила бескрайние уличные просторы, это было уже хорошо. Только кто сидел за рулем этой машины, я себе представить не мог. Потому что тут были многие — и те, кто должен находиться на смене, и те, чья смена ночью или завтра. Генаха Кавалерист, Габриян, Рамс, Чудо, Будильник, Веселый Костик, Пилюля, другие. В угол между столом и холодильником забился механик Вахиб. У открытого окна, время от времени шмыгая длинным носом, стоял Макарец — вот уж кого совсем не ожидал здесь увидеть.
На столе стояла початая бутылка водки, под столом — две пустых. На толпу человек в двадцать с лишним это ничто. Вдова суетилась у раковины, готовя закуску.
— Здорово, орлы, — поприветствовал я всех, входя в кухню. Розочка — за мной. Отставать от меня в незнакомом месте она не решалась.
Кухня у Четырехглазого была обширной. Даже вобрав меня с моей дамой она умудрилась избежать определения «повернуться негде». При желании, здесь можно было разместить еще с десяток человек. Вот только толпа поминальщиков не очень спешила принять нас. На мое приветствие никто не отозвался, никто не налил и не протянул мне чарку водки. Для них я по-прежнему был изгоем, недостойным мимоходом сказанного слова.
Уловив, что творится форменный непорядок, Любава бросила намыливать свеклину и метнулась к столу. Схватив стопку, она плеснула туда водки и протянула мне:
— На, Мишок, выпей. За упокой души Валеркиной.
Я принял стопку, посмотрел ее на свет и опрокинул в себя, предварительно выдохнув:
— Земля — пухом.
— Что-то мне тут душно стало, — очень прозрачно намекнул Генаха Кавалерист. Я внутренне усмехнулся. Все-таки, неплохо я их всех изучил. Знал, что если кто и попытается устроить сейчас хипеш, то это будет именно Генаха. — Пойду, подышу чем-нибудь, — добавил он и попер прямо на меня. Как будто нельзя было обойти стороной — я стоял вовсе не на проходе.
Но Генаха хотел меня унизить. Под настроение у него это неплохо получалось — он умел общаться с людьми. Только загвоздка в том, что я вовсе не хотел быть униженным. С другой стороны, рассказывать им историю своих похождений мне тоже пока не хотелось. Но, видимо, ничего другого не оставалось.
А Кавалерист тем времени подошел вплотную. И, видя, что я не собираюсь уступать ему дорогу, поднял руку — то ли для того, чтобы пихнуть меня в плечо, то ли для того, чтобы по морде съездить — не знаю. А проверять не стал, желания не возникло. Просто перехватил его руку и несильным, но ловким движением вывернул ладонь внутренней стороной к запястью. Хороший приемчик. В армии таким наш повар особо голодных штрафовал. Главное, больно, а поделать ничего нельзя — руку сломает. Я сам несколько раз бывал особо голодным.
Генаха охнул и загнулся в очень неудобную позицию. Он уже не жаловался, что ему душно. Он уже вообще ни на что не жаловался, предпочитая молчать.
— А теперь слушайте на меня, волки, — сказал я. — Умные вещи говорить буду. И ты, Генаха, тоже слушай. Ты, хоть и Кавалерист, а дурак дураком. Тебя если возьмут в кавалерию служить, то только в качестве лошади. Да и то вряд ли — зубами не вышел.
Генаха что-то недовольно загудел и попытался вырваться, но я только сильнее заломил ему ладонь, он вякнул и смирился со своим положением.
Остальные смотрели на меня вытаращенными глазами. В дверном проеме появился Ян, и тоже застыл с офигевшим видом. Вдова, обернувшись, всплеснула руками, но ничего не сказала, а руки опустить запамятовала. Так и стояла.
— Я вам, орлы, вот что скажу, — продолжал я. — Вы из-за чего на меня окрысились? Из-за того, что Литовец решил, что я стал старый и стал домашний. Из-за того, что со мной больше нельзя иметь дела. Что я теперь, если чего и хочу, то не денег или женщину, а покоя. Верно я говорю?
— А что, не так? — скривил губы Литовец.
— А с чего ты это, собственно, взял? — поинтересовался я.
— Да ты же мне сам все это высказал, когда я к тебе заехал! — удивился он.
— «Высказал»! — передразнил я. — Человек с похмелья, потрясен смертью друга, и что — он не имеет права слегка спороть глупость? Нервы, Ян, нервы. От них кто угодно может что угодно наговорить. А ты, падла, гордый оказался — встал и ушел. Только и я гордый — когда вы, сволочи, на следующий день со мной даже по душам поговорить не пожелали — вы же за поступком человека не видите, а человек слаб! — то я не стал у вас в ногах валяться. Я сел в машину и поехал этих хуцпанов ловить.