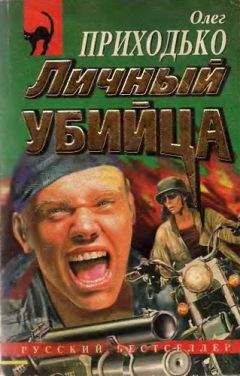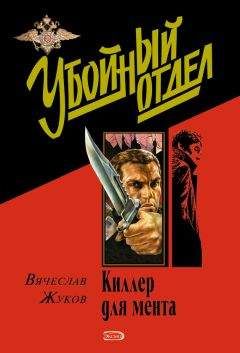— А что Неледин? — отставив недопитый кофе, спросил Решетников.
— Начать с того, что он был последним, кто видел Рудинскую. Развлекались они на ее дачке, он ее голую снимал. Потом, видать, чего-то не поделили. Может, он ее толкнул, а может, дружков навел. Предки у нее фабриканты, денег много. Назавтра при осмотре кусочек пленки на полу нашли — там она в чем мать родила красуется. А через пару дней на Казанском сержант преследовал подозрительного типа. Не догнал, а сумку тот обронил. Оказалось, Нелединская сумочка с аппаратурой. В кассете пленка была, вернее, обрывок, двадцать один кадр — та самая пленка, из которой кадрик на даче Рудинской валялся.
— Значит, он проявил пленку и вернулся? Как там кадрик оказался, не пойму?
— В том-то и дело. Проявлял он пленку в обед двадцать второго, в редакции газеты. А сам в Бело-щапово не возвращался: сразу поехал по заданию на ВВЦ, потом вернулся и до одиннадцати тридцати пил на дне рождения их сотрудницы, а в первом часу у дома его избили какие-то неизвестные. Они же взломали дверь в квартиру и учинили там обыск. Искали, судя по всему, пленку. Когда Неледин у подъезда появился, стали его метелить. Но это его версия. Понимаешь, если пленка, на которой была Рудинская, находилась в его сумке — а это именно так и было, домой он не заезжал, — они должны были ее проявить, узнать Рудинскую, адрес ее дачи, быть уверенными в том, что она там, ночью поехать к ней и… В общем, глупость какая-то получается. Ведь мать позвонила ей в три часа дня, она уже не отзывалась, несмотря на сотовый.
— И ты решил, что Неледин отдал пленку сразу после проявки, а избиение и налет — инсценировка? — спросил Решетников. — А тебе не приходило в голову, что этих налетчиков наняла Рудинская? По пьянке наснималась в костюме Евы, а назавтра проснулась — ни Неледина, ни пленки.
— Приходило. Забрали они пленку, наказали Неледина. Дальше-то что? Где Рудинская? — Протопопов посмотрел на часы. — Ты меня подвезешь?
— Само собой, — поднялся Решетников. — Адвокат у него есть?
— Нет адвоката. Отказывается. Сестра приходила, он ее не послушал. Твердит, как попугай: не виноват, не виноват…
Они сели в машину Викентия и поехали на Бутырский вал. Уже вечерело. Вылизанный к празднику весны город казался помолодевшим, зелень налилась соком, дети на роликах и досках заполнили дворы…
…И веселились вовсю в предчувствии скорых каникул.
Когда солнце нацелилось упасть за зубчатый горизонт, Старый Опер возвращался домой. На душе было муторно. Пузатый Итальянец предложил ему работу заправщика — знал, пес, про отставку. Решил почему-то, что полковника выперли из МУРа, оттого и разговор вел вальяжно, через губу, подчеркивая собственное превосходство: что, мол, отгремела музыка на твоей улице?
Каменев до объяснений не опустился, но когда Итальянец предложил ему матпомощь, показал зубы — посоветовал «свернуть ее трубочкой». Надо было не обращаться к нему, а отогнать машину в Южный порт на площадку. Нарушил Старый Опер золотой принцип: «Не верь, не бойся и не проси», но деньги нужны были срочно. Машину Итальянец обещал толкнуть завтра же — есть, мол, на примете один старичок. Но Каменев подозревал, что ему проще отвести допотопный «Москвич» за город и столкнуть с пригорка в реку: если Итальянец получал полторы тысячи баксов в день, то считал такой день черным.
Каменев зашел в кафе «Пикник» неподалеку от дома — оставались деньжата из заначки, грех не сбросить стресс. Сел за стойку, заказал для начала сто грамм. Водку знакомый бармен достал из-под прилавка, хотя на витрине было не меньше двадцати сортов.
— Разбавленную льешь? — подозрительно посмотрел на него Каменев.
— Обижаете, гражданин начальник, — осклабился бармен шире «бабочки» на шее. — Как раз вам — нет, вам — «менделеевскую», по формуле.
Кафе тонуло в полумраке — дальше трех столов не видно, за что его и облюбовала молодежь. Светящаяся стенка бара и цветомузыка уюта не создавали. Кто-то входил и выходил, топтались в темной глубине танцующие, к стойке подходила шпана: «Виски, шеф!» Бармен послушно клал в стаканы шесть кусочков льда вместо пяти, уменьшая таким образом количество дорогостоящего спиртного, но таявшим от жары и насыщенного табачным дымом воздуха посетителям эта махинация казалась благодеянием.
Каменев вообще не хотел заходить сюда, но дома была Леля, которой он обещал «завязать».
— Мятый костюм и небритость надо понимать как конспирацию? — услышал он чей-то баритон. По левому проходу подошел человек лет тридцати — в джинсах, тенниске и кожаной куртке. — Бутылку «Финляндии», — обратился к бармену. — Из-под прилавка, так же, как полковнику.
Несмотря на участившуюся тягу Старого Опера к выпивке, память его провалами не страдала, но, как ни старался, припомнить этого приветливого, улыбчивого мужика, пахнувшего дорогим лосьоном, он не мог.
— Не старайтесь, Александр Александрович. Вы меня не знаете.
«Не очень-то и хотелось», — чуть было не выпалил Каменев, но сдержался.
— Может, оно и к лучшему, — засмеялся мужчина, принимая из рук бармена поднос с ледяной бутылкой и четырьмя (это Каменев сразу отметил — именно четырьмя) стаканами.
— Чего-нибудь закусить? — угодливо спросил бармен.
— Четыре салата из крабов. Пойдемте, Александр Александрович, за наш столик? — запросто предложил незнакомец.
— Спасибо, я сыт и уже достаточно пьян, — не слишком приветливо откликнулся Старый Опер. — К тому же вы не похожи на «ссученного» — так, кажется, называется вор, оказавшийся за одним столиком с ментом?
Каменев вовсе не намеревался оскорбить незнакомца; оглянувшись, увидел за спиной плотного сложения качка со шрамом на скуле и… Либермана. Того самого Германа Либермана, сына банкира и спонсора программы по борьбе с оргпреступностью, освобождение которого в январе стало последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Присутствие наркоторговца позволяло с абсолютной вероятностью предположить причастность незнакомца к криминальным кругам.
— Во-первых, я не вор, — сдержанно ответил тот. — Во-вторых, вы не мент. Уже не мент, если мне память не изменяет. А она мне никогда не изменяет.
— Здравствуйте, полковник, — подошел к ним Либерман. — Не откажите в любезности принять наше приглашение.
«Либерман живет на Тверской-Ямской и обедает в «Робин Гуде» на Большой Грузинской. Какого черта он делает в затрапезном кафе «Пикник» на проспекте Мира?» — насторожился Каменев.
— Сто грамм «Русской», — придвинул он к бармену пустой стакан. — И бутерброд… — скользнул взглядом по витрине. — С яйцом и килькой!
Неизвестный пошел к столику.
— Брезгуете? — усмехнулся Либерман.
— На «черные» не пью, — отрезал Каменев. — Сколько с меня?
«А не они ли мою квартирку подломили? — думал он, рассчитываясь с барменом. — Сам, гниденыш, на крючок лезет… Ну, если я тебя на сей раз зацеплю — не помогут и папочкины миллионы!»
Забрав свой стакан и блюдце с бутербродом, он подошел к столику и сел на подставленный неизвестным четвертый стул. На подносе Либермана оказалось три салата — четвертый он оставил, сообразив, что Каменев к нему все равно не притронется.
— За что выпьем? — спросил незнакомец.
Каменеву вовсе не хотелось чокаться с ними, а потому он залпом выпил и, откусив бутерброд с килькой, сказал:
— За тех, кто в море.
Трое заржали, сдвинули стаканы и выпили тоже.
— Правильно, — одобрил Либерман, — люди делятся на живых, мертвых и тех, кто в море. Не смотрите на меня волкодавом, Сан Саныч. Если я перед вами в чем-то виноват — это легко исправить.
— А если перед законом? — спросил Каменев.
— «Законы точно паутина, в которую попадает мелкая мошкара, но через которую прорываются шершни и осы». Джонатан Свифт, — процитировал Либерман.
— А осы — это, значит, вы?
— Не будем уточнять, «ху» есть «ху»! Всех уравнивает земля, лежать в ней рядышком тем, кто законы создает, и тем, кто их презирает.
— Я эту философию уже сто раз слышал, — утеревшись салфеткой, безразличным тоном сказал Каменев. — И философов таких за решетку посадил больше, чем вам лет, Герман Аркадьевич. Мне известно, что за вашими плечами три курса философского факультета, но производите лучше впечатление на своих подельников.
— Сажали вы мелкую мошкару, — невозмутимо парировал Либерман, — я, как вы сами изволили заметить, в паутину не попадаюсь. А вот вас система, которой вы служите верой и правдой, не жалует, да?
— Это почему же вы так решили?
— Да по запаху бензина и двухдневной щетине на лице, — засмеялся Либерман.
Двое его спутников подхихикнули, тот, со шра-мом, что до сих пор не проронил ни слова — в гольфе и легкой курточке из плащовки, — плеснул в стаканы дорогой водки.