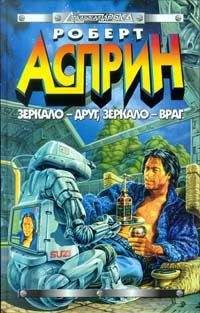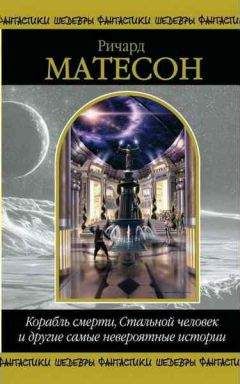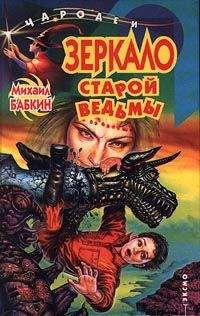— Подожди, — Женька с трудом оторвалась от него. И сама медленно, изнемогая, аккуратно расстегнула многочисленные пуговицы. Рубцов вновь увидел почти несуществующие груди. В них была заключена вся Женькина нежность, незащищенность, детскость. Колючие соски вызывающе прикоснулись к нему. Больше Рубцов собой не владел. Одним движением он вынул Женьку из джинсов, взял ее на руки и прижал к себе. Но когда развернулся, чтобы отнести ее в постель, Женька капризно запротестовала: «Нет, хочу здесь! Хочу любоваться тобой. Хочу видеть, как ты это будешь делать...»
Рубцов бережно опустил ее на пол и развернул спиной к себе. Женька расслабилась и, казалось, висела на его ладони, растопыренные пальцы которой сжали оба ее соска. Рубцов больше не замечал ни зеркала, ни своих движений в нем.
Женька, наоборот, жадно всматривалась в мутное отражение происходящего с ней. В такт их движениям метались язычки свечей у их ног. Тени сплетенных тел дергались по стенам, желая вырваться наружу. Женька взмахивала руками и пыталась обхватить Рубцова за бедра. А он приподнял ее над полом и, поддерживая второй рукой, без устали вдавливал ее легкое тело в себя. И Женька сначала всхлипнула, потом застонала и вдруг закричала так, что Рубцов испуганно замер. Девушка выскользнула из его рук и опустилась на колени. Рубцов блаженно гладил ее вздрагивающую голову и почему-то вспоминал пухлое, бесформенное тело генерала Панова, который наверняка бессильно мучил это чудо, называемое Женькой... Ее руки снова потянулись к Рубцову. Оставаясь на коленях, она обхватила его могучий торс и завладела им полностью...
Профессор не спал. Наверху слышались какая-то возня и крики.
«Победители гуляют...» — гневно определил он. В этой же комнате у другой стены тихо лежал приставленный к нему русский друг его дочери.
Найденов вглядывался в ночной сумрак и пытался Придумать повод обратиться к профессору. Между ними установился молчаливый нейтралитет. Вентура смотрел на молодого человека с сожалением. Найденов невольно отводил глаза в сторону. Теперь их разделяла пропасть. У профессора не было желания ее преодолевать. Майор же осознавал всю непристойность возложенной на него роли.
Презирал в душе себя и никак не мог набраться мужества объясниться. Да и что он скажет в свое оправдание? Что он женат и его тесть в Москве занимает высокое положение в ЦК партии? И если Советов узнает о связи своего зятя с дочерью португальского профессора, то навсегда упечет его служить в какую-нибудь сибирскую глухомань? Нет. Нормальный человек такое объяснение не примет. И правильно сделает. Всему есть предел. И все на свете имеет свое определение.
То, что совершил он, вернее, на что согласился, называется подлостью. И какая разница, где она проявилась: в беззаботной московской жизни, в военной миссии или в непролазных джунглях...
Найденов старался не вздыхать и украдкой ворочался с боку на бок.
Разговор с профессором необходим. Лучше здесь, чем по возвращении в Луанду. Там будет труднее, там — Ана. Профессор расскажет ей правду. Скорее всего, она на встречу не придет. Так ему, дураку, и надо. Раз не имеешь права влюбляться, значит, и не пытайся. Почувствовал себя свободным человеком, возомнил себя мужиком, а в результате оказался подлецом. Хотя... разве с ее стороны не подлость? Дразнила его своим телом и не позволила им овладеть. Как сказал бы Рубцов — прокрутила «динамо». Он рисковал всем, а она прикидывала — стоит отдаться или слишком много чести такому, как он. Кроме собственной вины, Найденов вдруг почувствовал обиду. Хорошо, допустим, отослали бы его в Москву, она преспокойненько нашла бы себе другого. Вышла бы в Лиссабоне замуж и даже могла бы честно признаться, что с этим русским парнем у нее ничего не было.
В душе майора возникло некоторое равновесие, и он решился. Сел на диван и обратился в темноту:
— Господин Вентура, позвольте мне объясниться с вами.
— Если получится — пожалуйста... — послышалось в ответ.
Найденов, пользуясь тем, что не видит собеседника, начал свою исповедь. Профессор не перебивал. Временами майору казалось, что его вообще нет в комнате. Хотелось услышать хоть какой-то звук сопереживания. Но профессор молчал. Майор продолжал все более уверенно:
— До встречи с Аной я не понимал, что существует любовь. Жизнь моя была самой обычной. И женился я, как все. Сейчас осознаю, что плыл по течению.
Ради Аны я готов на любые жертвы и испытания. Но моя жизнь связана присягой, уставами. Я не хозяин своей судьбы. Конечно, можно выйти где-нибудь из самолета, например в Риме, и попросить политического убежища. А что дальше?
Кому я буду нужен? На такое решение у меня не хватило сил. Выбрал другое, которое давало хоть какую-то надежду продлить счастье встреч с вашей дочерью.
Хотя... уговорив вас принять участие в нашей операции, я навсегда потерял Ану.
В полной тишине послышалось бульканье. Перед тем, как устроить профессора на ночлег, сержант Сантуш незаметно сунул ему в сумку бутылку виски.
Бульканье обнадежило Найденова. В темноте он заметил некое движение. И совсем рядом голос профессора произнес: «Выпей».
Майор протянул руку и нащупал поданный ему стакан. Пил медленно, маленькими глотками, и самообладание возвращалось к нему.
— В твоем возрасте я пил тинто — красное легкое крестьянское вино.
А потом гулял по улицам Лиссабона, особенно когда их трепал океанский бриз. У меня было два приятеля, с которыми я встречался довольно часто. Это король Жозе, застывший бронзовый всадник в окружении восхитительного ансамбля домов в колониальном стиле. И второй — Дискобол, устроившийся на зеленом холме парка возле спортивного дворца. Символ власти и символ силы. Оба мне чужие, чуждые и потому интересные. Я им немного завидовал. У каждого из них было то, чего не было у меня. Они покорили мир, и люди поставили им памятники. Скорее даже не им, а тому, что они выражают, — власти и силе. Ты хоть в одной стране мира видел памятник влюбленному? Или отказавшемуся от насилия? Или уставшему творить зло? И нет такого бронзового истукана, о котором можно было бы сказать: «Он был просто хорошим человеком». Или: «А этот просто любил одну женщину...» У меня была жена. Не просто жена — женщина, которую я боготворил. Вокруг нас бушевали страсти. Бесконечно долго умирал Салазар. Все боролись за власть. Интеллектуалы ударились в политику. Нескончаемые споры. Мои друзья по университету становились коммунистами. Считали друг друга революционерами. Бредили революцией. А я бредил своей женой. Я любил ее с каждым днем острее и безнадежнее. Она медленно угасала... И ни один врач на свете не в силах был ей помочь. Я растерял друзей. Мне было стыдно. Они совершили революцию, а я — похоронил жену. Они уверенно боролись за свободу, а я — оплакивал свою любимую.
Ко мне стали относиться с подозрением. Я оказался ничьим. Было поздно выбирать баррикады. Меня преследовали воспоминания и терроризировал стыд. В то время, когда я упивался своей любовью, мои друзья боролись за будущее моей страны. Я не мог смотреть им в глаза. Забрал Ану и уехал в Анголу. Прошли годы... Король Жозе и Дискобол так и стоят на своих законных местах. Мои друзья разуверились в своих мечтах и переругались. Моя страна так никуда от себя и не ушла... Что осталось? Только моя любовь, которую я каждый день отдавал и отдаю единственной любимой женщине. Господь говорил о любви и вере. А мы твердим о переустройстве мира... Я не могу быть судьей. Меня самого слишком часто судили и обсуждали. Я знаю наверняка, что такое любовь, и ничего не понимаю в политике...
В темноте снова забулькало.
Найденов понял, почему Ана не решилась переступить последнюю черту в их отношениях. Она ждала от него поступка во имя их любви. Он же решил иначе.
Профессор замолк. Возможно, он ждал ответа. Найденов откашлялся, вздохнул... и протянул стакан в темноту. Раздался легкий звон стекла и веселое бульканье. Но выпить майору не пришлось. За окнами вспыхнул яркий свет, на мгновение выхвативший сидящего рядом сгорбленного профессора с бутылкой в руке, и вдруг грянул страшный треск. Толстые стены дома вздрогнули, и показалось, что земля разверзлась. Вслед за этим немыслимым звуковым разломом послышались взрывы, гремевшие с механически размеренной частотой. Запах пороха и гари ворвался в раскрытые окна. По двору бегал кто-то, завернутый в белую материю.
Послышались поспешные редкие автоматные очереди. Стихли они точно так же, как и возникли.
Найденов попытался включить свет, но дом оказался обесточен.
Вдвоем они выскочили во двор крепости. Метрах в пятидесяти, где еще недавно высилась казарма, — длинный дощатый, на высоком каменном фундаменте барак, занимался пожар. Барака по сути уже не было. Вместо него — горящий надломленный остов, развороченный фундамент, обломки кроватей. Оттуда слышались вопли, стоны, проклятия. Пахло горелым мясом.