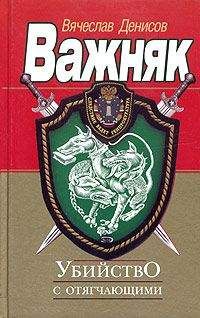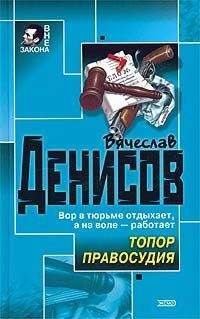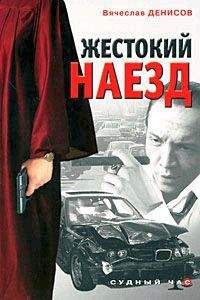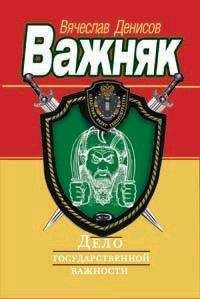– Это она отдала мне картину.
Внезапно молодой человек остановился за креслом Голландца, и оно пошатнулось. Соображая, не примеряется ли благочестивый джентльмен топором, Голландец обернулся. И тут же, коснувшись щекой носа Евгения Борисовича, отпрянул.
– Вместе со мной дед привез в Союз картину, – остервенело зашептал Евгений Борисович ему в ухо. – Полотно размером сорок два на шестьдесят три сантиметра!.. – шипящие, щекоча висок, забирались в ушную раковину Голландца, и ему казалось, что это кошка, вытянув свой шершавый язык, пытается вылизать ему барабанную перепонку.
– Значит, на картине и остановимся, – решительно заключил он, пытаясь подняться.
– Нет!.. – Руки молодого человека, чего от него ожидать до сих пор было невозможно, вдавили крепкое тело Голландца в кресло. – Не на картине… Мы успеем о ней поговорить… Хотите выпить? – так же неожиданно предложил он.
Голландец поднял на молодого человека глаза. Ему на лоб с лица Евгения Борисовича упала капля. Голландец развернулся и, освобождаясь от захвата, поднялся на ноги. Теперь он мог без труда рассмотреть хозяина дома. По вискам Евгения Борисовича, соревнуясь друг с другом, бежали две капли. Лоб его покрылся испариной, взгляд блуждал по залу.
Опустив наконец руки, которые тут же стали ватными, Евгений Борисович шагнул к столику и поднял с него серебряный колокольчик.
Очень скоро на его короткий перезвон появился некто, в ком Голландец безошибочно угадал дворецкого.
– Принесите коньяк, – потухшим голосом приказал молодой человек.
– Мне кажется, не помешала бы и валерьянка, нет? – как можно миролюбивее заметил Голландец.
Молодой человек внимательно посмотрел на него. Так смотрят на монету, ценность которой мешает определить слой ржавчины.
– Вы думаете, я сошел с ума?
– Я думаю, нам пора поговорить о картине. Обсудить финансовую сторону сделки и либо ударить по рукам, либо расстаться.
– Однако я все-таки закончу свой рассказ.
– Конечно. – И Голландец потянулся к бутылке. В эту минуту ему не хотелось противоречить хозяину дома.
– Картина, которую привез дед, принадлежала его второй жене, француженке. К ней, если верить рассказу бабушки, она перешла от матери. А матери – от ее матери…
«В такие минуты бываешь счастлив, что Ван Гог умер всего-то в позапрошлом веке, – подумал Голландец. – Если бы у него отняли полотно Рубенса, жить бы мне здесь до пятницы».
– Последний в списке владелец картины, сведениями о котором я располагаю, это и есть бабушка французской жены моего деда. Колин Гапрен… Вам знакомо это имя?
– Впервые слышу, – смакуя коньяк, признался Голландец.
– В тот момент, когда картина оказалась у нее, она жила в Мартиге. Это юг Франции, портовый городишко, в шестидесяти километрах по железной дороге от Арля.
– Редкое упоминание Арля наполняет ваш рассказ хоть каким-то смыслом. Арль – это последний этап жизни Винсента.
– Не торопитесь, не торопитесь… – устало пробормотал Евгений Борисович. – Все только начинается… Колин Гапрен – это тетка Рашели, девушки из борделя на улице Риколетт в Арле.
Голландец опустил рюмку, которую собирался было поднести к губам, и остановил взгляд на Евгении Борисовиче.
– Вам осталось только сказать, что проститутке Рашели – она же Габи – картину подарил Ван Гог.
– И не подумаю. Я не собираюсь вас эпатировать, я предлагаю вам историю, которая, быть может, поможет вам вернуть мне картину.
Выдержав паузу, которой оказалось достаточно, чтобы опустошить содержимое до краев наполненной рюмки, Евгений Борисович еще некоторое время сидел неподвижно, но не блаженствуя от ощущений после выпитого, а просто предоставляя возможность жидкости спокойно закончить свой путь. Голландец готов был поклясться в этом.
Евгений Борисович продолжил:
– Эту картину проститутка Рашель, приехав в Сен-Реми, купила у доктора Рея за тридцать франков. После чего, побывав в гостях у тетки, оставила до лучших времен.
– «У доктора Рея…» Вы имеете в виду того Рея, который… – Голландец поднял руку и пошевелил пальцами.
– Я думал, вы знаете о Ван Гоге все, – с иронией бросил молодой человек.
– Во Франции Реев как в Москве Петровых. Я просто хотел уточнить: доктор Рей – это тот самый Рей, что был лечащим врачом в больнице для душевнобольных в Сен-Реми?
– Именно так. Это тот самый доктор Рей.
– А как картина Ван Гога, о которой мы, к моему великому сожалению, даже не начали еще говорить, оказалась у доктора Рея? – Голландец, поставив на стол полную рюмку, сцепил пальцы в замок. – Я знаю историю одной картины, подаренной Рею Ван Гогом, – это портрет самого доктора. Впоследствии Рей заложил им дыру в своем курятнике, чтобы несушек не тревожили ветра, а одиннадцать лет спустя он его оттуда вытащил и продал за полтораста франков. Спустя еще некоторое время картина оказалась в руках русского коллекционера Щукина. Он купил полотно в тысяча девятьсот восьмом году в парижской галерее Дрюэ, а потом подарил Пушкинскому музею. Мне жаль реставратора Елену Москвину, которая над этим холстом… Впрочем, это к делу не относится. Надеюсь, не об этой картине мы говорим сейчас, Евгений Борисович? – Голландец пальцами, сложенными в «замок», почесал подбородок. – Мне бы очень не хотелось сойтись на одной дорожке с сотрудниками Роскультурохраны.
Молодой человек свирепо выдохнул через нос и стал проявлять признаки беспокойства.
– Дьявол меня порви, господин Голландец!.. Я пытаюсь придать своему рассказу академическую ритмичность, но из-за ваших врезок он уже даже мне самому кажется бредом сумасшедшего!.. Позволите мне договорить до конца или хотите поговорить о «Портрете доктора Рея»? Если последнее, извольте! Я знаю о нем не меньше вашего!..
Голландец, который порядком устал находиться в этом доме, осторожно откинулся на спинку кресла. Точнее – утонул в нем.
– Это «Ирисы в вазе», – сказал вдруг успокоившийся Евгений Борисович и поднял на Голландца полный опаски взгляд. Но тот, даже не поведя бровью, сидел в кресле словно мертвый.
– Вы слышали, что я только что сказал?
– Слышал.
– И почему никак не реагируете?
– Это не будет врезкой?
– Прекратите ерничать.
– Будь по-вашему, – согласился Голландец и наклонился к столику. – Но сначала один вопрос. Каким годом датированы ваши «Ирисы в вазе»?
Молодой человек провел рукой по брючине так, словно собирался разгладить стрелку.
– Одна тысяча восемьсот восемьдесят девятым годом.
– Замечательно. – Голландец дернул головой и закинул назад упавшие на лоб волосы. – Начну с того, что тема ирисов захватила Ван Гога с тысяча восемьсот девяностого года. В принципе разговор на эту тему уже может быть закончен. Но вопреки здравому смыслу я его продолжу. Итак, всего Винсентом Ван Гогом было написано четыре полотна, на которых присутствуют ирисы в вазе. Одна из них находится в нью-йоркском Метрополитен-музее, вторая – в амстердамском музее Винсента Ван Гога. Остальные приобретены для частных коллекций, но из вашего рассказа видно, что они не имеют к вашим ирисам никакого отношения. И больше ирисов в вазе Ван Гог не писал.
– Значит, вы не все знаете о Ван Гоге, – и Евгений Борисович нервно рассмеялся.
– Получается, так.
Отмечая про себя резкие перемены в настроении молодого человека, Голландец постепенно приходил к выводу, что картина для него – не просто картина. Она имеет для ее хозяина значение гораздо большее, чем произведение искусства как таковое или сумма, которую за нее могут дать.
– А почему вы решили, что это Ван Гог?
– Я похож на человека, который поверил бы на слово родному дедушке или, того лучше, – бабушке?
– Кто проводил экспертизу?
– Жданов. Потом Гессингхорст.
Голландец расслабился и прикрыл глаза. Жданов – специалист экстра-класса. Когда нужно проанализировать полотно, выводить в свет которое преждевременно или невозможно, появляется Жданов. Репутация у него такая же темная, как и картины, которые он исследует. Но Гессингхорст проводит экспертизы для Сотбис, когда другие специалисты поднимают руки вверх. За достойный гонорар Гессингхорст даст и мотивированный ответ, и примет обет молчания. Эти две личности сами требуют тщательной экспертизы, но спорить с их мнением всегда затруднительно. Во всяком случае, еще ни один из них не ошибся и ни один из них за деньги не солгал. Потому, наверное, к ним и обращаются за помощью такие, как Евгений Борисович.
– Меня смущает формат полотна. Ван Гог не писал картины на холстах размером сорок два на шестьдесят три сантиметра.
– Президент японской компания «Ясуда», купивший в восемьдесят восьмом «Подсолнухи» Ван Гога за двадцать пять миллионов фунтов, тоже поначалу впал в прострацию, когда выяснилось, что картина написана на холсте из джута, который Ван Гог никогда не использовал.