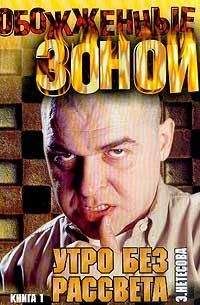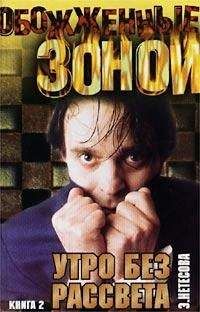Василий Петрович в эти минуты блаженствовал, когда Колька, забыв обо всем на свете, устраивался у него на руках и просил не уходить из дома. Мальчишка скучал по старику. Но вскоре Тонька устроилась работать нянькой в детском садике, и теперь мальчишка вместе с матерью уходил в детский сад на целый день. Он быстро там освоился. Стал заводилой среди своих ровесников и уже не висел на мамкиной юбке, перестал бояться людей, ни от кого не прятался.
Тонька тоже изменилась. Уже на третьей неделе жизни в городе женщина убедила деда забрать из деревни телушку. Уж как ни упирался старик, внучка оказалась настырнее. И забрали телку домой. Купили сено. А старик, подготовив для нее стойло, лишь удивлялся Тоньке, ведь вот сама себе на шею повесила лишнюю мороку. Ведь вот могли брать молоко у соседки, но нет, подай бабе свое.
А вскоре в сарае завопил петух, заквохтали куры, завизжали поросята.
Детсад был совсем рядом с домом, и Тонька везде и всюду успевала.
Василий Петрович и не заметил, как по уши оброс хозяйством. Внучка ему иногда отчитывалась, что на деньги, вырученные от молока, она купила комбикорм корове, зерно курам. А потом приобрела теплую куртку и сапоги деду.
— Ты ни обо мне, про себя и Кольку думай. Мне уж ничего не нужно, — говорил бабе. Но вскоре находил в кармане теплые рукавички, пушистый шарфик и носки.
Тонька заботилась молча. Вслух только бурчала, ругалась за всякую мелочь, выводя старика из терпения. Тот все понимал, но не всегда умел сдержаться. Прожив в одиночку много лет, не любил, чтоб ему указывали и бранили, а потому, случалось срывался. Тогда уже Тоньке приходилось кисло. Василий Петрович не выбирал выражений и, подскочив с места, кричал:
— Чего взъелась и воняешь тут с самого утра, как худая печка? Что тебе надо? Вовсе забрызгала меня, смешала с говном! Давно ли сама с него вылезла, лярва лягушачья? Давно ли тебе душу в деревне гадили? Теперь меня изводишь, чума сракатая? Ни там я рубаху кинул? Ну и хрен с ей! Я в своем дому живу покамест, и ты тут не указ. Не пуши хвост! Покудова живой, не возникай и не вылупайся шибко! А то оттяну ремнем как паршивку, шкуру до пят спущу стерве! Захлопнись, «параша» вонючая!
Тонька мигом убегала за печку, хныча втихую. Там она пряталась от дедовой лютости и жалела себя, сетовала на свою корявую судьбу. Но уже через полчаса успокоившийся, остывший старик вытаскивал ее из-за печи и, усадив напротив, говорил:
— Я соображаю, от чего ты такая говенная. Взросла серед змеюшника, где все друг на дружку шипели и кусали. Не имелось там тепла и души. Вот и ты эдакой сделалась. Не могешь по-другому и грызешь всех, кто рядом. Но ты бельмы протри! Глянь, на кого скворчишь! Я у тебя единый, поприкуси брехуна, не обижай! Стоит ли рубаха того, чтоб из-за ней брехаться? Я ж не грызу, что ты мой топор сгадила. Ить работаю им. В сарае других топоров полно, сколь просил, ты едино по-своему. Что надо, мне скажи, сам управлюсь, не лезь за мужичьи дела, покудова я живой. Ить ты баба! Будь добрее, гля, сына растишь. Он с тебя себя срисует. Каков станет, а? Тож пилить зачнет? Разве не сделается больно?
Тонька невольно головой кивнула.
— Ну вот то-то! Ты тож не всегда молодой будешь. И оглянуться не успеешь, как песок из задницы посыпется…
Ох и трудно переламывала баба саму себя. Ломать привычное оказалось нелегко, и все ж срывалась на брань.
— Ни баба, упрямая ишачка! Худче северной пурги! Завелась — не остановишь! Опять гавкаться порешила? Язык с жопы выдерну! — грозил дед, а сам замечал втихую, что все реже бранится Тонька, лишь когда вовсе устанет, вымотается. Оно и впрямь, отдыхать ей было некогда. Сама себя работой завалила. А и кому легко приходилось нынче, вон самому на седьмой десяток повалило, а всяк день без роздыху.
Все годы с бригадой коттеджи строил. Вот только неделю назад мастер пришел и попросил извиняясь:
— Не обижайся, Петрович! Зима скоро. Заказов почти нет. Может отдохнешь до весны, побудешь дома. А как потребуешься, мигом к тебе приду и позову. У тебя хорошая пенсия, а у молодых наших ничего нет кроме детей. Их кормить надо. Хотя заработки, сам понимаешь, совсем вшивыми стали, — умолк человек сконфуженно.
Так и остался Василий Петрович в бессрочном отпуске, хорошо, что Андрей подвернулся. Все ж хоть не без дела в доме сидеть. В городе много строительных фирм развелось, но не брали туда стариков, вот и остался человек в ненужных.
— Слышь, Тонька, а завтра я пойду к Андрюхе дом чинить. Делов там прорва. К Рождеству навряд ли справиться. Хорошо, коль Федька воротится и подможет. Сам Андрей в плотницком деле навовсе не секет. Зато обещался обложить кирпичом свою и нашу избу! Оно враз теплей станет, а и хата по-другому глядеться будет, враз помолодеет.
— Зато весь двор засерут и участок сгадят. Я возле дома чеснок под зиму посадила. Весь его вытопчут. А и цветы сгубят, все розы изведут, — посетовала Тонька.
— Где твои мороки, где дом! Не облезешь, новые разведешь, приживутся. А вот кирпич, это на все годы. С ним изба дольше жить станет. А и сами порадуемся.
— Чему? Покуда дом обложите, все в грязи потонем. К крыльцу не подойти, в избе не продыхнуть. Ладно б в лето затеяли, так под зиму вздумали, — завелась баба.
— Охолонь, дура! Обложить дом — это не ставить его заново. Андрюха обещается управиться в две недели. То морока недолгая. Ежли Федька подможет ему, к снегу оба дома успеют привесть в порядок. А уж двор вымести и подчистить вовсе не тяжко, в пару дней уложимся.
— А чего до весны ждать не хотите?
— Эх, дуреха! Доживем ли до ней, кто уверен, вот и спешим, покуда живые!
— Так ты уж и согласье дал?
— Конешно. Я вон с нашей бригады хочу с собой взять старика, ему тож до весны велели отдыхать. Чтоб с безделья не сплесневеть, согласится.
— А платить ему кто будет? — прищурилась баба.
— Столкуемся! То не твово ума дело! Лишь бы не хворал Илья. Ить и наш дом вовсе дарма в кирпич оденут. Так и сладимся, — улыбался Василий Петрович, радуясь, что в эту зиму не останется без дела и работы.
— Дед, а мне на работе полставки уборщицы дают! Я, конечно, согласилась! — похвалилась Тонька.
— Отрекись, слышь, дуреха! И так дарма вкалываешь. Дешевле дома быть, больше проку, чем за такие гроши. Глядишь, нам подмогнула б! Вон хотя б Андрюхе! У ево в избе хуже чем у нас в сарае! Шагу не ступить. Вовсе спаршивился. А ить Федька вертается. В такую-то срань! Вот где ты надобна!
— А кто мне за то заплатит? В садике хоть что-то поимею, там у соседа вовсе на халяву.
— Ну и паскуда ты, Тонька! Ну и свинота неумытая! Как же тебя такую состряпали? Совсем бесстыжая дышишь! Ровно серед своих деревенских, совсем безмозглая! Нешто тебе, бабе, тяжко в избе прибраться? — стыдил Василий Петрович внучку, но та заявила удивленно:
— А чё стыдишь? Только у себя убираются дарма, чужим никто не помогает на халяву. И нече мне выговаривать зряшно. У себя дай Бог успеть.
— Иль не врубилась, что наш дом кирпичом обложат без денег. Ни за что платить не станем!
— А и ты без гроша на него будешь вламывать! — не сдавалась баба.
— Дурковатая! Я только чинить стану, а материалы по-твоему ничего не стоют?
— Ну не заходись. Ладно, уломал, подмогу, но после того все равно соглашусь в уборщицы, копейка в доме не лишняя, — вздохнула баба.
— Не пущу! Не хватай ртом и жопой. Неровен час, сорвешься, пупок развяжется. Бери, что по силам. Вот вырастет Колька, пойдет в школу, я тебя с детсада вовсе заберу. На хозяйстве останешься. От него проку больше. С молока и яиц в неделю получаем больше, чем ты на своей работе. Оно лучше было б, если б Колька в доме рос. Слышь, что он с твово садика принес вчера? Воротился домой и спрашивает:
— Дед! А чего ты без бабки спишь? Давай тебе нашу воспитательницу приведу! У ней сиськи по подушке, а жопа с твой сундук! У ней нету мужика! Пускай она вместо бабки станет. И вы с мамкой брехаться перестанете навовсе.
— Зачем мне чужая баба? Да еще молодая, вся в соку! — рассмеялся я. А Колька ответил:
— А я не пущу в дом старуху. Зачем нам развалюха? Ты с молодой подольше проживешь. Я хочу, чтоб мы весело жили. Хочешь, завтра ее уговорю? Она согласится.