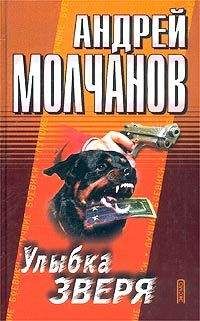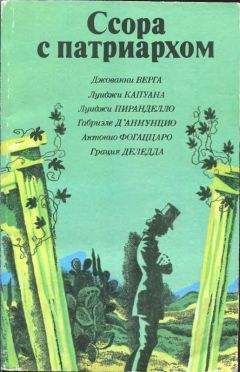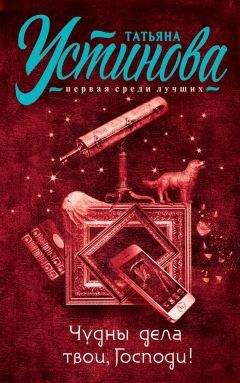Что-то плавно и мягко переменилось в движении вагона, зудящая нотка возникла в стуке колес на стыках, — поезд стал замедлять ход. Чувствовалось приближение большого города, потянулись за окном одноэтажные посады, белая колокольня показалась вдалеке…
Скоро будет переезд, подумал Прозоров, волнуясь. Он неожиданно ярко и живо вспомнил тот долгий и давний день, когда с мамой шел через этот переезд, нагрузившись узлами, и мама сказала, указав куда-то в сторону подбородком:
— А вот, кажется, и наш дом. Улица Розы Люксембург, тридцать семь.
Иван сразу увидел веселый нарядный домик, выкрашенный яркой зеленой краской, с белыми наличниками и красной крышей… Но, не доходя до него, мама опустила свои узлы у серого сплошного забора, из-за которого выглядывал дом иной — хмурый и темный.
Квартирной хозяйкой оказалась молчаливая грузная старуха в черном платке, повязанном по-монашески. Известно было, что каким-то сверхъестественным способом, не перемолвившись ни с кем из жильцов и парой фраз, она сумела стравить и перессорить поочередно уже несколько крепких, проверенных жизнью семей, которым привелось снимать здесь жилье.
Семьи эти в итоге съезжали со скандалом, разводом и проклятиями, но мама маленького Вани Прозорова все-таки, несмотря на предупреждения соседей, решились поселиться именно здесь, прельщенная дешевизной сдаваемой комнаты.
— Уж нашу-то с тобой семью никто не разрушит! — улыбаясь, сказала мама, поставив вещи в углу. Затем подхватила Ванюшу под мышки, звонко поцеловала в щеку и высоко подняла над полом. — Ах, какой тяжеленький! — проговорила восхищенно. — Настоящий мужичок!
Она стала кружить его, как часто делала и прежде, когда он был маленький, но на этот раз вышло не совсем удачно. Поплыли беленые стены, кровать с ковриком, коричневый шкаф с туманным от старости зеркалом, на дне которого вспыхнуло отраженное окно, темный таинственный проем открытой в коридор двери, диванчик, затем озарилось настоящее окно, а потом ноги Ивана ударились об угол шкафа, — комнатка была слишком тесной. Мама вдруг замерла и медленно опустила Ваню на пол. На пороге комнаты в проеме открытой двери стояла старуха в черном платке и молча глядела на них. Так состоялось первое знакомство Ивана со старухой.
TC ""У нее было странное имя — Ада Адамовна, и она была настолько старой и ветхой, что действительно показалась маленькому Прозорову дочерью самого Адама. Но — прочь уныние! Какое веселое и счастливое слово — новоселье! И месяц этот, кажется, был самым счастливым в жизни Ивана Прозорова. Стоял солнечный сентябрь, — бодрый, хотя и чуть-чуть грустный, и, пожалуй, единственная горечь, которую испытал в эти дни Ваня, была горечь от сорванной им и разжеванной рябины.
В сентябре самое синее небо, в прозрачном воздухе сверкала длинная паутина, и паутина эта высоко и свободно летела через тихий провинциальный город.
Мама уходила рано утром, когда Иван еще спал, вернее, притворялся спящим; лежал, не открывая глаз, чувствуя на веках дрожащее солнечное марево. Мама склонялась над ним и, обдав чудесным запахом духов, легко целовала в лоб и убегала. Ваня лежал не шевелясь, стараясь не разрушить этого хрупкого счастья, и снова задремывал с улыбкой на устах. Проснувшись, умывался из алюминиевого рукомойника, с наслаждением мылил руки земляничным мылом, нюхал розовый кусок, прежде чем положить в мыльницу, затем шел в маленькую сумрачную кухоньку с изразцовой печкой-плитой в углу. Здесь уютно пахло углем и керосином. Находил на столе термос с чаем, вареное яйцо, ломоть черного хлеба…
Да, он был счастлив в этот месяц как никогда в жизни.
Позавтракав, он выходил во двор и садился на скамейку у крыльца. На самый краешек, потому что на скамейке этой обычно сидела уже старуха, греясь на солнышке.
Удивительнее всего в этой старухе было то, что она целыми днями неподвижно сидела здесь, опершись обеими руками на клюку, и глядела на одинокую корявую яблоню, на забор и на крышу соседского сарая, точно прощаясь с ними перед дальней дорогой.
Маленький Ваня находился на одном краю жизни, совсем еще недалеко отойдя от той непостижимой Вечности, откуда он чудесным образом появился на свет, а старуха уже приближалась к другому краю, уже заглядывала в ту же непостижимую Вечность, куда ей скоро предстояло кануть, и в этом, по-видимому, их возрасты как-то внутренне совпадали. Ада Адамовна много и охотно разговаривала с ним.
TC ""Почему-то Ада Адамовна настоятельно рекомендовала ему идти в военное училище.
Поначалу Иван опасался разговаривать со старухой, боясь, что она как-нибудь разрушить их семью, но вскоре выяснилось, что семья может разрушиться и без всякой старухи.
По вечерам мама стала приходить поздно, и Иван, ожидая ее, часами просиживал у окна. Из окна комнаты был виден железнодорожный переезд. Переезд почти всегда был перекрыт полосатым шлагбаумом, перед ним попеременно мигали два красных фонаря и прерывисто заливался электрический звонок. Железная дорога была оживленной: поезда грохотали во всякое время суток в ту и в другую сторону. Именно по этой дороге мама вернулась из Средней Азии, забрала Ивана из детского дома, и они поселились у старухи.
Прозорову больше всего нравилось именно то, что окна комнатки выходили на железную дорогу, ему сразу полюбились эти ночные шумы — пронзительные звонки, зарождающийся где-то далеко шквал приближающегося поезда, который надвигался и нарастал как всемирная неизбежная катастрофа, а затем, сотрясая землю, поезд некоторое время вместе со своим грохотом как бы стоял на месте, словно прикованный чугунными скрепами, стуча колесами, ярясь и роя землю, а в конце концов срывался и уносился прочь, и долго еще длилось медленное затухание звука.
Где бы он ни жил после, ему долго-долго не хватало этого живого ночного грохота, мелькания света на стене, звона, дребезжания посуды в буфете…
Железная дорога разделяла город на две части — на каменную с четырехэтажными и пятиэтажными домами, а также с целой улицей девятиэтажных домов с лифтами, в которых жило начальство обогатительного комбината, и — на деревянную половину, с палисадниками, огородами, яблонями и лопухами у заборов. Деревенская половина была лучше для жизни, милее, уютнее, просторнее, но тем не менее все ее жители завидовали обитателям каменной части, потому что у тех была “горячая вода и балконы”. За престижной каменной частью высился гигантскими металлическими коробами и закопченными трубами обогатительный комбинат.
В конце сентября в одну ночь погода резко переменилась, завыл за окном порывистый сырой ветер, хлынули с деревьев листья, потемнело небо от туч. А вечером того сумрачного дня мама вернулась вместе с каким-то толстощеким дядькой, который мигом натоптал у дверей луж, высвободился из гремящего жесткого плаща и, хлынув чужим враждебным духом, прошел мимо застывшего Прозорова к столу, поставил со стуком бутылку красного вина. Чужой дядька оказался дядей Жоржем, прапорщиком местной воинской части, о котором мама, улучив секунду, пока тот гремел рукомойником, шепнула, что это “…очень серьезно, страшно серьезно, поди, Ванечка, погуляй…”
Вот таким неожиданным и подлым образом счастье Прозорова кончилось вместе с солнечными денечками…
Через месяц он оказался в другом городе, где располагалось известное на все страну суворовское училище. Так что вовсе и не старуха разрушила их семью.
А когда Иван Прозоров, окончив училище, вновь ненадолго вернулся в город, старухи уже не было на белом свете.
В городе бушевала сирень.
Дядька Жорж поздоровался с ним рассеянно и равнодушно ибо занят был крепкой хозяйственной думой. В нем происходила гигантская внутренняя работа, и казалось, из недр его существа все время доносился приглушенный и постоянный скрежет мысли… Накануне смерти старухи, бывший прапорщик очень удачно выкупил у нее часть дома, а вернее, внес лишь мизерный задаток, оформив таковой как полную выплату и теперь подвигал события к тому, чтобы и все остальное жилье перешло к нему в собственность. Однако где-то в Сибири по словам дотошного нотариуса могла обнаружиться троюродная сестра старухи, а потому осторожничающий юрист сопротивлялся окончательному оформлению дома. Впрочем, разговаривая с дядькой Жоржем, нотариус то и дело отводил глаза, вздыхал и делал выразительные паузы. Но дядька Жорж в такие минуты тоже вздыхал, как бы не замечая этих пауз и старался сдвинуть дело как-нибудь так, чтобы оно само собою сдвинулось.
Об этом он и хлопотал, этим он и мучился, не замечая ни сирени, ни ночных гуляний ошалевшего от воли Прозорова.
А гулял Прозоров там, за переездом, в “каменной” части.
Прежняя зависть “деревенских” к “городским” с годами переросла в откровенную вражду. Причем обоюдная эта вражда приняла характер нескончаемый и мстительный… Внутри себя две главные части так же делились по районам, секторам и так же откровенно и самозабвенно враждовали: “зареченские” били “мясников”, “мясники” гоняли “головановских”, “головановские” преследовали “шанхайцев”… До смертоубийства, правда, дело не доходило. Враждовала исключительно молодежь, причем, только до свадьбы. Человек женившийся в тот же день выпадал из строя бойцов.