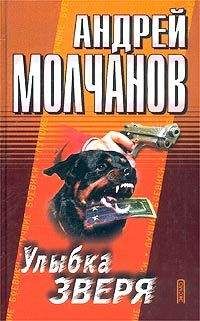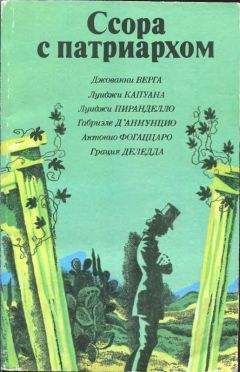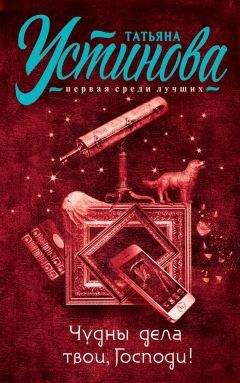То была эпоха солдатских ремней с оловом в пряжках, кастетов, заточенных напильников, велосипедных цепей. И еще в это лето пришла дурацкая мода носить с собою на танцы опасные бритвы.
“А все-таки какая милая, наивная эпоха… И как быстро и жестко меняется мир, — думал Прозоров, глядя в окно. — Странно и вспомнить теперь, что существовало когда-то неписаное, но соблюдаемое всей черногорской шпаной правило тех, не таких уж и давних, лет: “Лежачих не бьют.”
Железнодорожный переезд задавал ритм всему городу, часто и подолгу перекрывая движение, и тогда по обеим сторонам скапливались длинные терпеливые очереди из машин и автобусов. А когда в сентябре хоронили повесившуюся из-за несчастной любви учительницу музыки, похоронная процессия потратила на прохождение переезда чуть ли не полчаса, потому что колонне пришлось переходить по частям: сперва грузовик с гробом и музыканты, затем прошли близкие родственники, после товарняка проскочила середина колонны, а замыкающим же пришлось бежать, чтобы догнать ушедший вперед оркестр.
В том солнечном и золотом сентябре, когда хоронили молоденькую учительницу, Иван и сам едва не бросился под поезд…
В эту осень он узнал, как властно и неприметно эта гибельная отчаянная мысль подспудно овладевает человеком, которому едва-едва стукнуло семнадцать, и как трудно, почти невозможно уклониться от выполнения задуманного, как глух становится человек к уговорам и увещеваниям рассудка…
Да, было с ним в этой жизни и такое… И уже потом, проходя многочисленные проверки и беседы с психологами в разведке, он сам диву давался, как ему удалось столь естественно и просто скрыть это юношеское движение души… Неужели оно было подобно случайному ветерку, не оставившему не то, что рубца, но и тени — безусловно бы примеченной прожжеными профессионалами, исследовавшими и разложившими всю его натуру на мельчайшие составляющие… Хотя — кто знает? — может, в тех задачах, что ему поручались, подобный элемент выступал, как элемент положительный… Результаты бесед и тестов оставались тайной, доступной лишь руководству, и как ни пытался Иван выведать резюме о своем сформулированном в спецслужбе “я”, это ему так и не удалось.
Однако в ту давнюю осень его юности едва ли не решающим аргументом против самоубийства стало то, насколько нелепо все это будет выглядеть со стороны: не успела повеситься одна, как еще один дурак сиганул под поезд. Кстати, когда он ходил “примериваться” к колесам и рельсам, то почему-то в голове его беспрерывно крутился пошлый посторонний мотивчик:
Бросилась с утеса Маргарита,
А за нею юный капитан…
Два самоубийства одновременно — все-таки слишком громоздко для провинциального городка. И может быть, спасло Прозорова какое-то смутное чувство красоты и гармонии и невозможность их нарушения.
В ту же ночь он просто сел в поезд и уехал в Крым. Через сутки проводники хотели высадить его — безбилетника, на какой-то ночной украинской станции, а ему было абсолютно все равно — высадят, не высадят, ему-то ведь и жить не хотелось, и они, вероятно, что-то почуяв в его отчаянном молчании, отступились. А после какая-то добрая женщина из пассажиров, полагая, что Иван спит, тихонько подложила ему в нагрудный карман пиджака один рубль…
Эх, вы — добрые, позабытые персонажи прошлой жизни… Кто из вас тогда, в начале семидесятых, мог подумать о будущих грандиозных ломках, перестройках и переменах…
Прозоров невольно ухватился за хромированный поручень — поезд резко замедлил ход, поползла по вагону суета сборов — пассажиры спешили к выходу на видневшийся в окно перрон.
Пройдя здание вокзала, он шагнул в стоявший над городом, уже истаивающий сумрак раннего утра. Солнце еще не взошло, но свет его набухал в молочно-теплом мареве за чередой многоэтажек.
Народу из поезда выходило немного, и народ этот был большей частью торговый, хваткий, привыкший к неудобствам и лишениям. Прозоров постоял на вокзальной площади, наблюдая за тем, как сноровисто водружаются на багажники подъехавших автомобилей встречающих набитые товаром рюкзаки, громоздкие баулы, гигантские, перетянутые веревками коробки, как мужики и бабы с рюкзаками за спиной, взяв в обе руки сумки и каким-то хитрым способом прицепив к себе неуклюжие тележки, тянутся тесно сбитым караваном на остановку автобуса. Кое-кто, правда, спешил к кучке “волг” и “жигулей”, принадлежавших местным левачкам, с нетерпением ожидавшим деловых пассажиров.
Прозоров, ощупав нагрудный карман пиджака, где лежали деньги, неторопливо перешел привокзальную площадь, отмечая, что за долгие годы его отсутствия ничего особенно нового, кроме коммерческих витрин, вывесок и палаток здесь не появилось.
“Если сейчас обернусь, — загадал он, — и увижу водонапорную башню и несколько тополей рядом, то все у меня будет хорошо и удачно…”
Он обернулся и — увидел эту башню, сложенную из красного кирпича, а рядом — одинокий тополь в неопрятных охапках вороньих гнезд, с высохшей черной вершиной.
Перешагнув через небольшой железный заборчик, Прозоров оказался на аллее скверика и бодрым шагом двинулся по ней — вдоль искалеченных деревянных скамек, к сиденьям которых присохли куски газет, мимо перевернутых чугунных урн, исторгнувших из себя рыбьи скелетики, треснутые пластмассовые стаканчики, смятые сигаретные пачки.
Левака, должного отвезти его к брату, он решил поймать в городе, подальше от вокзала, что, по его мнению, было безопаснее, учитывая и его вид явно непровинциального жителя и кучу деньжищ в кармане.
Дедок в шляпе, похожий на лесовика, одиноко сидел почти у самого выхода из сквера и пристально вглядывался в приближающегося Прозорова. Прозоров тоже внимательно поглядел на старичка, затем невольно перевел взгляд на скамейку. Рядом с дедком была расстелена газета, стояло два стаканчика, бутылка какой-то темной бурды, а в белой пластмассовой тарелочке зеленел аккуратно нарезанный огурчик, краснели кружки колбаски, заботливо уложенные на хлеб, лежал чуть в сторонке надкушенный пирожок…
— Товарищ! — неожиданно поманил старичок, когда Прозоров поравнялся с ним.
— Чего тебе, батя? — миролюбиво отозвался Иван и остановился.
— Товарищ, портвешку? — Старичок открытой ладонью повел в сторону сервированного газетного листа. — Безвозмездно, товарищ! — поспешил пояснить, заметив, что Прозоров слегка озадачился столь неожиданным предложением.
— Да как-то не ко времени, батя… — Прозоров взглянул на часы. — Половина шестого утра, не рано ли? И потом, портвейн, честно говоря, не мой любимый напиток.
— Зря, — разочарованно сказал дедок. — Я-то думал, хороший человек… Лицо простое… Ан нет, обманулся… Сам-то откуда?
— Из Питера, — зачем-то соврал Прозоров. — К приятелю еду, в Запоево… А народ у вас тут, я вижу, гостеприимный…
— Народ обыкновенный, — сухо ответил старик и, склонившись над газетным листом, стал поправлять и прихорашивать разложенную закуску, всем своим видом показывая, что аудиенция закончена. — В Запоево, стало быть… Понятно. Мой тебе добрый совет: ты Дубовым Логом не езди, а езжай через карьер…
— Почему не ездить Дубовым Логом? — спросил Прозоров.
— Там браты Соловьевы живут, — объяснил старик.
— Ну и что?
— Убьют.
— Вот как? — удивился Прозоров. — Ну ладно, спасибо за ценную информацию. До свидания.
— Постой, — сказал старик и снял шляпу. — Так уж и быть, добрый совет даром… А вот за ценную информацию — пять рублей.
Прозоров молча положил в шляпу десятку и пошагал в сторону площади.
Не успел он пройти и нескольких шагов, как снова услышал за спиной голос старика:
— И через карьер не езди!
— Почему? — остановился Прозоров.
— Цыганы. Перенять могут. Ступай лучше обратно на площадь, откуда пришел, спроси Балакина. Он хоть и дороже возьмет, зато при оружии… И ходы знает.
“Да, — думал Иван Прозоров, выходя на привокзальную площадь и направляясь к стоящим машинам, вокруг которых заканчивали погрузочную суету торговые люди с тележками и баулами, — расслабляться тут явно не стоит…”
Он остро пожалел, что не взял с собой маленький, незаметный в кармане пиджака “маузер”. Настороженное его чутье отчетливо улавливало повсеместную опасность, словно пронизавшую атмосферу этого некогда тихого дружелюбного городка. Городка, все еще жившего в его памяти, но давно сгинувшего в никуда вместе с ушедшим временем. Остались лишь формальные приметы прошлого — категорически невозвратимого. Может, здесь жили и люди, которых некогда он видел, с кем стоял в очередях, сидел в кинотеатрах и в кафешках, прогуливался по скверам, но ведь и они изменились столь же непоправимо, как и место их обитания. Одну энергетику и дух бытия сменили иные…