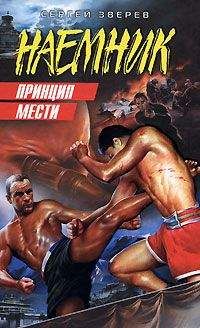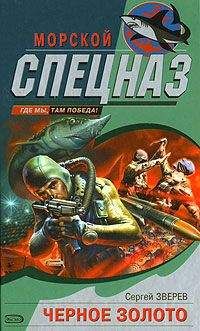– Ты сказала «передадут»...
– Да, мы с тобой больше не увидимся. Прощай, Бирма. Я улетаю домой, в Израиль.
– Я правильно тебя понял – ты вышла за этого еврейчика замуж?
– Ты правильно меня понял.
Она нервно затянулась и посмотрела в окно, словно опасаясь слежки со стороны агентов «Моссада».
«Как прекрасны ваши длинные ресницы и как печальны глаза». Эту фразу я произнес однажды, когда знакомился с девушкой в троллейбусе. Не знаю, почем она вдруг пришла мне в голову... С тех пор красивые девушки перестали ездить в троллейбусах – только женщины с хронически усталыми лицами и неидеальными ногами, спешащие на работу или с работы.
– А если я сделаю обрезание, ты выйдешь за меня замуж?
Глупость, готовая сорваться с моего языка, благополучно сорвалась, была озвучена и оценена по достоинству.
– Не говори пошлостей, – произнесла Анюта раздраженно.
Наверное, я был жалок. А кто не жалок? Только тот, кто никогда не был раздавлен любовью, не произносил глупых бессвязных речей, не стоял перед женщиной на коленях, вымаливая у нее прощения. Просто в какой-то момент ты понимаешь, что из тебя вынули душу и ты стоишь пустой, как доспехи в рыцарском зале, и из последних сил стараешься быть мужчиной.
Я подошел к Анюте и привлек ее к себе. Я поцеловал ее в губы, холодные, как мартовская вода, и заглянул в глаза, глубокие и прозрачные, как мартовское небо.
– Ты можешь сделать это. Прямо здесь, на подоконнике. Но это ничего не изменит, – сказала она с убийственным равнодушием.
Уведи меня в ночь, где шумит Енисей
И сосна до звезды достает.
Потому что не волк я по крови своей...
И меня только равный убьет...[1]
Она никогда не узнает, в каких снах будет являться мне. А измученная душа прорастала в нее со скоростью бамбука, и не было ничего мучительнее этой пытки. Да, мы находились на Востоке, где растет бамбук. Я нагнулся, в последнем жесте касаясь губами ее пальцев, и со скрипучей усмешкой произнес:
– Целуя даме руку, не прожгите галстук сигаретой.
Она не остановила, не окликнула меня, когда я уходил, будто чувствуя, как велика, как огромна и необорима моя ненависть к себе и как бессмысленно все, что есть и будет.
Сидя в келье, я со всевозрастающим недоумением читал Лосского. Чрезмерную любовь к себе он называет основным нравственным злом. Все остальные виды зла суть следствие.
Но этот мир создан не для святых. Святость невозможна в этом мире.
Лосский утверждает: «Свобода деятелей как существенное условие возможности любви, а следовательно, и совершенства божественной полноты бытия есть вместе с тем и условие возможности зла в мире». Но, как мне кажется, свобода есть не столько условие возможности любви, сколько причина неизбежности зла. А божественная полнота, увы, недостижима. Как и сама любовь, к которой каждый из нас в разной степени стремится.
Захлопнув книгу, я поймал себя на мысли, что все это лишь ширма, самообман. Мне надо было забыться, загнать свою боль в тупик и там ее похоронить со всеми возможными почестями. Мои псевдопостроения сводились к отрицанию всего и вся; если любовь невозможна, то моя боль нечто иное, как самовнушение. Ее попросту не существует.
Но что же тогда гложет меня, какой нестерпимый огонь жжет грудь?
Прошло уже десять дней с тех пор, как я вернулся в Россию и вместе с Садовским поселился в пристрое к храму, в котором Игнатий служил протоиереем. Он был единственным из нас, кто имел постоянную работу, семью и дом, какие-то обязанности, планы на будущее. Я же, как и мой друг, пребывал в состоянии частичного анабиоза, в ожидании каких-то перемен, смутно надеясь на что-то лучшее. За время нашего отсутствия многое изменилось: после окончания крупномасштабных боевых действий постепенно стала налаживаться жизнь на Северном Кавказе, по слухам, близким к непроверенным, заработала наконец отечественная экономика и начался новый крестовый поход против преступности – впервые был уличен в коррупции и предан суду крупный государственный деятель, что вселяло осторожный оптимизм. Впрочем, общая тенденция развития России, наметившаяся еще в девятнадцатом веке – от лишнего человека к лишней стране – по-прежнему сохранялась, несмотря на уверения астрологов и ясновидцев в том, что аура у нее положительная.
Целыми днями мы с Садовским валялись на узких монашеских лежанках у себя в келье, читая всевозможную литературу из библиотеки храма. Товарищи из ФСБ поддерживали с нами телефонную связь. Смысл нашего усиленного ничегонеделания сводился к тому, чтобы принудить Богуславского к активным действиям. Руководитель операции «Иравади», фээсбэшник по имени Олег, выдал нам два «ствола» и приказал бдить. Тактика выжидания пока не оправдывала себя. Мы уже созрели для настоящего дела. Богуславский стал для нас идеей-фикс: не «завалив» его, мы не могли рассчитывать на защиту ФСБ от заказавшей нас вайнахской группировки и уж тем более не смели мечтать о возвращении к нормальной жизни. По этой же причине мне не хотелось вспоминать о своей жене и дочке: чтобы не навлечь на них беды, я вынужден был отказаться даже от самой мысли о встрече с ними.
Был ничем не примечательный серый июльский день с нудным моросящим дождиком и изнуряющей духотой. Садовский читал Достоевского, я смотрел в окно.
– Посмотри, что пишет Федор Михайлович, – сказал он. – «Красота это страшная вещь, здесь Бог с дьяволом борется».
Я сразу подумал о Миледи.
– Как говорил Сергей Булгаков, эдемская красота в царстве «князя мира сего» есть до известной степени хищение или подделка, и потому она жалит, как змея, и губит сладко своей отравой.
– Чьей красотой ты ужален? – спросил Садовский, откладывая в сторону том Достоевского.
– Ты ее не знаешь.
– Это началось после нашего отъезда из города-героя Пьи? – допытывался он.
– Да. Я виделся с ней.
– А я чуть не женился. Три раза собирался. Или четыре. Причем на одной и той же девушке. Она успела побывать замужем и родить дочь. Теперь она далеко. А я еще дальше. Грустная история.
Видя, что я не слишком охотно поддерживаю этот разговор, он сменил тему.
– Недавно мне на глаза попалась одна газетенка. Там пишут о каком-то Льве Баянове, который якобы с потрохами продался Богуславскому и теперь представляет его интересы в Госдуме.
– Я хорошо знаю этого деятеля. Работал у него когда-то начальником службы безопасности. Хорошим был парнем. Но недолго.
– Там же говорится, что человек Богуславского не прошел по спискам ЛДПР, и потому наш крестный отец не имеет серьезной поддержки на федеральном уровне. Его теперь ищут пожарные, ищет милиция. И Интерпол.
– Интересно, где теперь он всплывет.
– В буквальном или переносном смысле?
– Все возможно. Меня гораздо больше беспокоит, что с Дашей. С тех пор, как она исчезла, о ней ни слуху ни духу.
– Ты проверял фотомодельное агентство?
– Она там больше не работает.
– Сама уволилась?
– Нет, через доверенное лицо.
– Значит, она жива...
– Но почему не дает о себе знать?
– Даст.
Он как в воду глядел: в тот же вечер Даша позвонила Игнатию и «забила стрелку» в кафе «Лира». По словам протоиерея, говорила она сбивчиво, дрожащим от волнения голосом и в конце концов разрыдалась, умоляя отдать ее мучителям статуэтку, которую мы у них похитили. «Иначе они меня убьют», – сказала она.
– Когда встреча? – спросил я.
– Завтра в семь.
– Надо предупредить Олега.
Созвонившись с местной Лубянкой, мы получили от нашего «шефа» все необходимые инструкции. Операция захвата Богуславского (а сомнений в том, что встреча инициирована именно им, у нас не оставалось), была спланирована с нашим непосредственным участием. Но была тут одна неувязочка: почему его люди использовали ее в качестве приманки и даже позволили себе выдвинуть ультиматум? Неужели Богуславский способен променять собственную дочь на несколько миллионов долларов? Конечно, зная его, я не удивился бы этому, но что-то здесь все-таки было не так. Слишком уж примитивной казалась мне схема «отъема» ключа. Не похоже на Богуславского, большого любителя многоходовых комбинаций... Очевидно, он затеял какую-то сложную игру и сделал первый ход. Если, конечно, это он и если он все еще жив.
С другой стороны, вполне могло случиться, что Богуславский, загнанный в угол, был просто лишен возможности действовать иначе. Для «заметания следов» ему срочно понадобились деньги – ведь у него на хвосте сидела такая нешуточная организация, как Интерпол. Тогда все становилось на свои места, и даже его жестокость по отношению к Даше (если это был не блеф) находила свое правдоподобное объяснение. Как говорится, Акело промахнулся и теперь расплачивается за свою ошибку.
Я часто думал о Даше, и думал хорошо. Мне казалось, только благодаря ей Богуславский не умертвил нас во сне, хотя ему ничего не стоило это сделать. Спасая своих друзей от мгновенной смерти, Даша, по сути, обрекала их, и в том числе меня, на долгое мучительное умирание. Это давало крохотный, микроскопический, но шанс. Шанс выжить. Только случай спас нас.