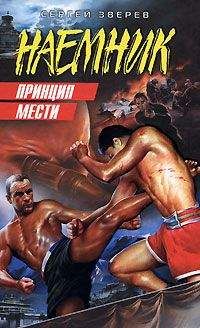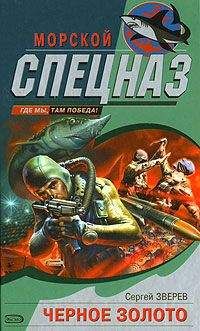– Это что-то новое, – продолжал задираться Садовский. – Я больше наслышан о технике «ядовитого плевка». Могу продемонстрировать на вашем японском городовом. Пусть сделает одолжение, подойдет поближе...
– Нет, – поднял руку Богуславский. – Самурайский Меч сразится с Игнатием.
Мастер Будо, повинуясь воле хозяина, принял боевую стойку. Протоиерей вышел на освещенную площадку и стал напротив. В следующий момент они сошлись и, подобно Пересвету с Челубеем, расшиблись друг о друга; японец со сломанным носовым хрящом отлетел к стойке бара и, смирившись со своей участью, затих, а Игнатий рухнул навзничь с пробитой грудью – «палец-меч» угодил ему между ребер. Почти одновременно с ними Садовский схлестнулся с Железной Ладонью мастер Багуа с развороченной челюстью грохнулся под стол, а Садовский с переломом руки, которой он блокировал встречный удар ребром ладони, с тяжелым вздохом опустился на колено.
– Как видим, силы равны, – подытожил Богуславский. – Слово за нами...
Не скажу, что я, как Теодат, чувствовал в своих жилах божественный ихор олимпийца: победить Спокойного в открытом бою было почти невозможно. Но меня устраивала и ничья. Ощущая привычное перед решающим поединком теснение в груди и легкость в членах, я вышел на середину танцевального круга. Запас страха, отведенный мне в этой жизни, по-видимому, истощился: я видел перед собой только лицо моего врага и точно знал, что если мой кулак просвистит мимо, мне конец. Преисполненные желания закончить бой одним ударом, одними касанием, одним взмахом руки, не отбрасывающей тени, мы сшиблись с ним под хрустальной люстрой, мелодичный перезвон которой так некстати напомнил мне о хрупкости человеческой жизни и зыбкости наших надежд. Мой «крюк» достиг цели, но и сам я хлопнулся затылком об пол, захлебываясь кровью, бьющей изо рта. В глазах зарябило от плавающих под потолком огненных кругов и шаровых молний, и в этом сонме геометрических фигур, в полном собрании божественных нимбов и царственных порфир, вдруг обозначился расплывчатый контур фигуры Спокойного. До меня, как сквозь толщу средневековых казематов и глухих подземелий, донесся его помноженный на многократное эхо голос:
– Я покажу тебе, как можно убить прикосновением пальца...
Отработанным приемом он отбил стул, пролетавший над его головой (позже я узнал, что его метнул Игнатий) и сделал облачное движение, концентрируясь на выполнении завершающего удара-прикосновения в технике «ядовитой руки». Я лежал перед ним, словно парализованный, не в силах шелохнуться. Почему-то в этот момент перед моими глазами всплыла сама собой сцена из романа «Война и мир», где князь Болконский смотрит на упавшее ему под ноги ядро и спрашивает себя: неужели это смерть? Он созерцает ее, свою смерть, как посторонний, ощущает ее дыхание, он почти хочет узнать, как все произойдет, и это запредельное, иррациональное любопытство заставляет его забыть о чувстве самосохранения. Он очарован близостью смерти. Впрочем, все это могло длиться какие-то доли секунды, как мимолетное ощущение, когда происходящее вокруг вдруг замирает и кажется невероятно замедленной киносъемкой. Я погрузился в «серебряный» туман, о котором говорил мне Спокойный. Рука помимо моей воли и независимо от сознания блокировала направленное в солнечное сплетение «ласточкино крыло» – удар пришелся по касательной. Вслед за этим раздался неимоверный грохот, будто кто-то сбросил с большой высоты штабель досок, и я увидел, нет, скорее почувствовал, как дернулась голова Спокойного и судорожно сжалось его тело. Исполнив странный конвульсивный танец в неизвестной мне изломанной технике, он притворился мертвым. Я знал, что он притворяется, выжидает, когда я потеряю бдительность и раскроюсь, чтобы добить меня, но я не дал себя обмануть и, приподнявшись на локте, ударил его кулаком в висок.
Он не отреагировал. Я замахнулся, чтобы послать его в стопроцентный нокаут, но кто-то перехватил мое запястье, не давая завершить удар. Это был Садовский.
– Дима, он мертв ! – кричал Садовский, но я не слышал его, не понимал, что он хочет этим сказать. Разве не продолжаем мы драться с нашими врагами после их смерти, разве мертвые уступают в хитрости и коварстве живым?
– Остановись!
Садовский тряс меня, как тряпичную куклу, приводя в чувство. Не знаю, сколько это продолжалось, но когда я стал воспринимать вещи такими, какие они были на самом деле, взору моему открылась страшная картина: Спокойный с размозженным черепом лежал в луже крови, над ним с пистолетом стояла Даша.
– Не думала, что это так просто, – удивленно проговорила она.
– Спасибо, ты спасла мне жизнь, – с трудом ворочая языком, произнес я. Кровотечение, кажется, остановилось, зубы были на месте. Но играть на флейте или саксафоне я бы сейчас не стал.
– Он учел все, – презрительно глядя на Богуславского, сказала Даша. – Все, кроме одного: что я дочь своего отца. И в случае его смерти унаследую всю его империю.
– Какую империю, о чем ты говоришь?! – насторожился я, не понимая, к чему она клонит.
– Мужчины – безмозглые дураки. Нет – сущие дети. И это неисправимо, – печально усмехнулась она и всадила пулю в живот Железной Ладони. Мастер Багуа по инерции пробежал на карачках метра полтора-два и, как заколотый молочный поросенок, брыкнулся в проходе между рядами столов. С боевым криком, больше похожим на жалкий всхлип, на девушку бросился Самурайский Меч. Но попытка обезоружить дочь Богуславского закончилась для него плачевно: отброшенный выстрелом назад, мастер Будо ударился спиной о стену и сел на пол. Его душа еще металась в вопрошающем взгляде черных пронзительных глаз, билась и колотилась, как пойманная птица, но время ее пришло и она упорхнула. Еще одна раскрытая клетка...
– А теперь – твоя очередь, мой милый, – сказала Даша, обращаясь ко мне. – Нам было хорошо, это правда. Но ты мне уже не нужен. Как и все твои друзья-товарищи. Слишком опасные свидетели, слишком много знают...
С извиняющейся улыбкой она прицелилась мне в грудь.
Раздался выстрел...
Никогда бы не подумал, что переход в мир иной происходит так безболезненнно – я просто плыл по ртутно-серой реке, оттолкнувшись от берега жизни, чтобы причалить к берегу смерти, и было как-то досадно видеть тщетность своих потуг достичь немедленного, сиюминутного результата. По большому счету, не изменилось ничего, кроме Дашиного лица, которое почему-то утратило обаяние молодости и стало превращаться в гримасу ужаса и боли. Ветерок, треплющий обрывки памяти, донес до меня нелепые слова, сказанные ею, а может быть, и не ею, а кем-то другим: «Я уже не девушка, но это не имеет значения, ведь я люблю тебя, да, люблю, и все, кто был до тебя, по сравнению с тобой просто щенки...»
Даша упала как подкошенная – невидимый серп срезал ее, точно лозу. Получалось, что я жив, а она – нет. То есть я не умер, умер не я. Умерла – она...
Все это было выше моего понимания.
В довершение ко всему я увидел Анюту, стоявшую у зеркала в раме из слоновой кости. Мне показалось, что сумасшествие – не порок, а неоспоримое достоинство, особенно в ситуации, когда тебя убивают регулярно, по несколько раз в день, и не видел ничего зазорного в явлении своего ангела-хранителя, каковым, все всякого сомнения, она выступала. Я мог поздравить себя с переходом на новый, качественно иной уровень восприятия и мышления, с началом необратимого путешествия в мир тонких материй. Все, что происходило в последние полчаса в китайском ресторане, строилось, несомненно, по законам нелинейной логики и не поддавалось какому-либо разумному объяснению.
– Что ты здесь делаешь? – спросил я, опасаясь, что Анюта вот-вот растает, превратится в шлейф духов или бумажный острокрылый самолетик.
– Как видишь, ставлю точку во всей этой истории, – сказала она, подходя ближе. Пистолет в ее нежной, совершенной по форме женственной руке казался чем-то чужеродным, воплощением какого-то немыслимого уродства и жестокости. – Все-таки моя версия оказалась правильной.
– Какая версия?
– Разрабатывать надо было не Богуславского, а его дочь, – сказала Анюта, с сожалением глядя на распростертое тело девушки. – В последнее время она сделала колоссальные успехи. Прибрала к рукам почти весь российский бизнес своего папаши...
– Не может быть...
– А она красива, – заметила Анюта, как бы намекая на мое прошлое.
– А где твой муж? – спросил я, возвращая ее в настоящее.
– Лечит псориаз на Мертвом море.
– Анюта, – позвал я ее слабеющим голосом.
– Меня здесь нет. Официально я нахожусь там же, на Мертвом море...
Она исчезла так же внезапно, как и появилась. У меня не было полной уверенности в том, что это была она и она была здесь, а не в Израиле, что моя кровь – это моя кровь, а лежащий рядом труп – не я сам, а Богуславский, пораженный во всех правах и не располагающий более ни собой, ни своим состоянием. Все это никак не хотело укладываться в моей голове. И только присутствие друзей давало какую-то надежду и заставляло предположить: все худшее уже позади.