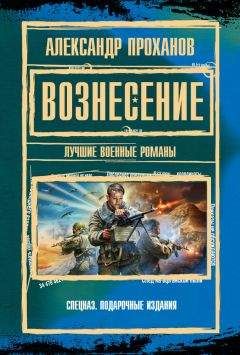Они услышали трескучий налетающий рокот. Из-за вершин низко, с металлическим звоном винтов вынеслась темно-зеленая «рама». Громогласно, оставляя шлейф копоти, прошла над дорогой и взмыла. Почти пропадая в тучах, сделала в небе лихой кувырок, блеснула стеклом кабины. Это красавец-летчик, отправляясь в полет, послал жене воздушный поцелуй, написал в небесах ее монограмму.
Они катили по песчаной дороге в дюнах, в низкорослых пушистых соснах. Этот волнистый ландшафт, мягко-зеленый, с проседями песка, нежно розовыми лишайниками и мхами, напомнил Белосельцеву псковские леса, где когда-то было ему чудесно.
– Здесь на прошлой неделе наши попали в засаду. Грузовик сгорел, и двое солдат погибли. – Джонсон, вцепившись в руль, вильнул мимо тяжелого обугленного остова, уродливо застрявшего в соснах. Инстинктивно прибавил скорость, словно уклонялся от выстрела. Две другие «Тойоты» повторили этот нервный маневр. И не было больше иллюзии, не было сходства с псковскими лесами. Белосельцев подтянул за ствол лежащий в ногах «галиль», поправил на коленях гранату. Следил за густым мелколесьем, высматривая вороненый отсвет.
– Сесар! – Белосельцев оглянулся, увидел, как тот на заднем сиденье откинулся, расставил колени, держа между ними автомат, легонько, за ствол, готовый вырвать его наверх, бить в упор сквозь стекло. – Сесар, я подумал, как много за эти дни я доставил тебе хлопот. Вот опять сорвал тебя с места. Ты подвергаешь себя неудобствам. Поверь, я очень тебе благодарен. Я твой должник.
– Это я твой должник, Виктор, – мягко улыбнулся Сесар. – Ты привез меня к жене. Когда бы я увидел Росалию! К тому же ты и сам оставил свой мирный дом, приехал сюда, где стреляют. Подвергаешь себя тому, что ты называешь неудобствами. Поверь, я это очень ценю. Мы все это ценим.
– Вот здесь в прошлом месяце была засада. – Джонсон кивнул на обочину, где что-то темнело, то ли сальная ветошь, то ли обгорелый куст. – Здесь погиб советский инженер. Его расстреляла базука.
Белосельцев, свернув до боли шею, смотрел, как исчезает темное пятно на обочине. На этом месте погиб его коллега, разведчик, посланный Центром с той же целью, с какой едет теперь он сам. Не добрался до цели, погиб при исполнении долга. Его тело, переправленное через океан, покоится под мраморной плитой на Ваганьковском, и никто из прохожих не узнает, как и за что он погиб, проходя мимо черного камня с красным букетом цветов. Белосельцев чувствовал смятение, боль. Казалось, кто-то бесплотный вскочил с обочины, гонится вслед. Силится обьяснить, рассказать, от чего-то предостеречь и спасти. Они давно уже катили по песчаным ухабам и яминам, а влажный туманный воздух все рябила чья-то прозрачная бессловесная тень.
Сесар пружинно колыхался на сиденье, что-то напевал вполголоса. Две машины, канареечная и голубая, неслись следом за их зеленой. Белосельцев усмехнулся. Перефразируя Блока, продекламировал про себя: «Тойоты» шли привычной линией, подрагивали и скрипели. Молчали желтые и синие, в зеленой плакали и пели».
– Тронкера!.. Полпути позади!.. – сказал Джонсон, сбавляя скорость. – Отсюда свернем и пойдем к болотам, где идет операция у базы Севен бенк. – Он въезжал в поселок, где стояли военные грузовики, были растянуты походные палатки, торчал покосившийся дощатый сарай с бумажным плакатом – солдат-сандинист стреляет из «калашникова».
Джонсон исчез в помещении с каким-то пакетом. Белосельцев и Сесар пили пепси, теплую и пенистую, когда Джонсон снова вернулся.
– Виктор, там есть пленный «мискито». Пастор. Его взяли во вчерашнем бою. Хотите, можете на него посмотреть.
Белосельцев захватил аппарат, тайно усмехаясь, – «политик», как любезный экскурсовод, старательно показывал ему экспонаты войны. Вошел в дом мимо конвойного и очутился в помещении, оббитом грубыми досками. Навстречу поднялся знакомый кубинец Рауль, оглаживая седоватые виски, растягивая в улыбке сухие коричневые губы. Посреди комнаты стоял пленный индеец, краснолицый, с выпуклыми костяными скулами, смоляными сальными волосами, перетянутыми на лбу узкой тряпицей. Руки его были связаны в запястьях, приторочены к деревянному столбу, подпиравшему потолок. Брюки порваны, башмаки измызганы, на босу ногу, с черными от грязи щиколотками. На нем была линялая желтая майка с изображением поющей певицы и английским названием рок-группы «Летняя звезда». Чуть поодаль стоял военный, неуловимо похожий на пленного, с такими же выпуклыми индейскими скулами, чуть раскосыми глазами, смотревшими безразлично и отстраненно.
– Рад встрече, компаньеро Виктор. – Кубинец пожал Белосельцеву руку. – Вам, как журналисту, повезло. Вы можете увидеть всю подноготную войны. Сами станете подноготной войны. Это большая удача для журналиста. – Он дважды с легким ударением повторил слово «журналист», и это насторожило Белосельцева. Было слабо различимым сигналом, который посылал ему кубинский разведчик. – Я знаю, вы отправляетесь в район Севен бенк. Это большое мужество. Там идут жаркие бои, летают шальные пули. На пути продвижения войск сидят в засадах вот такие фанатики. – Он кивнул на пленного. – Они не разбирают, где журналист, а где простой пехотинец. – Пленный с окаменелым, красным, как кирпич, лицом слушал, уставясь немигающими, тревожно мерцающими глазами. – Если хотите что-нибудь спросить, переводчик поможет. – Кубинец ткнул пальцем на военного, чье индейское лицо казалось слепленным из той же красноватой, обожженной глины, что и лицо молчащего пленника.
Белосельцев понял, что он находится в полевой контрразведке, где заправляет Рауль, посылавший ему невнятные сигналы, в которых таились едва различимая угроза и тайная насмешка, чья природа была не ясна. Смотрел на пленного, на его твердую спокойную осанку, длинные мускулы, длиннопалые руки, перепачканные землей и пороховой гарью. Это был человек леса, реки, свайной постройки. И одновременно – пулемета. И одновременно – молитвенника. И одновременно – какого-то рок-ансамбля «Летняя звезда». Цивилизация проводила на этом природном, лесном человеке свой эксперимент. Вводила в него расслабляющие вакцины и подавляющие сыворотки. Заново лепила из красной гончарной материи его облик. И этот подопытный индеец, привязанный к столбу, изуродованный, в шутовском облачении, сохранял свою непоколебленную глубинную сущность, оставался самим собой.
– Почему он, священник, чье призвание, казалось бы, проповедовать мир и братство, почему он стрелял из пулемета и убивал? – Белосельцев обращался к переводчику, облаченному в сандинистскую форму, но – из того же племени, из тех же лесов, от той же реки, свайной постройки, каноэ. – Хочу понять, как совмещается в нем пастор и пулеметчик.
Вопрос был обдуман переводчиком. Должно быть, упрощен. А затем в упрощенной форме был задан пленному тихим сочувствующим голосом, напоминающим курлыканье журавля. Белосельцев видел: смысл вопроса не сразу дошел до индейца. Его твердое, глинобитное лицо несколько секунд оставалось недвижным. Но потом губы растворились, и раздался ответный курлыкающий звук.
– Он говорит, его жену, детей, членов его общины захватили военные, посадили в грузовики и силой увезли из поселка неизвестно куда. Он пробовал их защищать, читал офицеру Священное Писание, но над ним смеялись. Тогда он отложил молитвенник и взял пулемет…
Ответ породил в Белосельцеве больное смутное чувство, напомнившее то, вчерашнее, когда лежал в океане и смотрел на парящую птицу. Все находившиеся в этой тесной дощатой комнате были разобщены, представляли распавшееся на части целое, расчлененное на отдельные ломти, не узнававшие друг друга, забывшие о былой целостности.
– А вы как попали в армию? – спросил он у переводчика.
Тот секунду молчал:
– Моих детей и жену захватили «контрас» и угнали в Гондурас, за Рио-Коко. Я хочу их вернуть…
Белосельцев смотрел на обоих индейцев, из единого рода и племени, расчлененных, удаленных один от другого на длину пулеметной очереди. Они демонстрировали рассеченность мира в его сокровенном ядре, жестокую, действующую на земле хирургию. В мире витала изощренная воля, разлучавшая и рассекавшая, искушавшая и ввергавшая в гибель. Вынимала из рук молитвенник и вкладывала в них автомат. Отнимала из рук автомат и вкладывала молитвенник. Эта воля понимала природу людей, страх перед смертью, месть за любимых и близких. Возводила конструкцию мира, целостность и безопасность которого покоилась на страхе погибнуть. Единство такого мира было единством вражды, где каждая измельченная, сорванная с места пылинка, ненавидя, враждовала с другой.
– Скажите, – обратился он к пленному. – Верно ли, что на базу Севен бенк прибыли из Гондураса люди, называющие себя правительством? Что-нибудь можете рассказать об этих людях?
Переводчик осмыслил вопрос, раздалось его тихое журчание и курлыканье. Пленный молчал. Переводчик помедлил и снова, теми же журавлиными птичьими звуками, повторил вопрос. Пленный окаменело безмолвствовал.