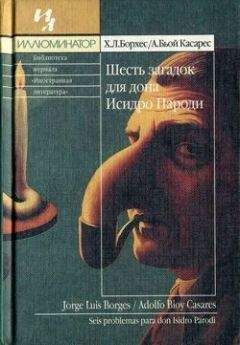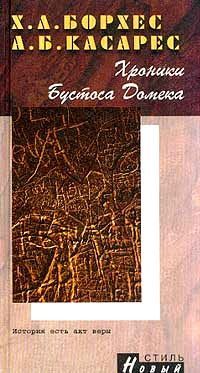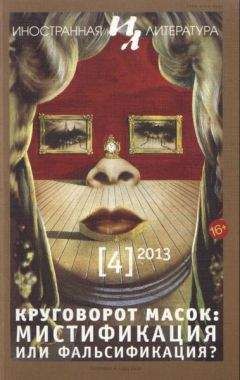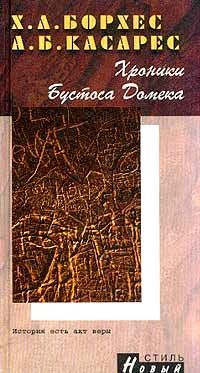– Что называется, прямой удар в челюсть, – с готовностью поддержал его Англада. – Чистый разум и еще раз чистый разум.
– Нет, я уверена, есть судьбы, где ничего не происходит случайно, – настаивала на своем Пумита.
– Знаешь, если это камешек в мой огород, то ты попала пальцем в небо, – вскинулась Мариана. – Да, в доме у нас не стихают ссоры, но виноват во всем Карлос – вечно он за мной шпионит.
– А в жизни ничего и не должно происходить случайно, – скорбным голосом прошелестел Кроче. – Ежели не будет должного управления, сильной полиции, мы сразу погрузимся в русский хаос, наступит диктатура Чека. Мы же успели убедиться: в стране Ивана Грозного со свободой воли покончено.
Рикардо после долгого размышления изрек:
– Эти дела – это такое, знаете, дело, которое не происходит ни с того ни с сего. И… когда нет порядка, и корова может в окно залететь.
– Даже мистики самого высокого – орлиного – полета, такие, как Тереса де Сепеда-и-Аумада, или Рёйсбрук, или Блосио, – подхватил Бонфанти, – руководствуются в этом вопросе установлениями церковной цензуры.
Командор стукнул кулаком по столу:
– Бонфанти, не хочу обижать вас, но будем играть в открытую: вы рассуждаете как истинный католик. И да будет вам известно, что мы, члены ложи Великого Востока Шотландского Устава, одеваемся как священники и у нас свои, особые воззрения. У меня кровь закипает, когда я слышу, что человеку не позволено делать все, что ему заблагорассудится.
Воцарилось неловкое молчание. Несколько минут спустя Англада – побледнев – отважился все же пискнуть:
– Технический нокаут. Первая колонна детерминистов разбита. Мы кидаемся в брешь – они в панике бегут. Насколько хватает взгляд, поле боя усеяно оружием и обозной поклажей.
– Может, кто в этом споре и победил, да ты тут ни при чем, ты молчал как пень, – безжалостно отчеканила Мариана.
– А ведь все, о чем мы тут говорим, попадет в некую тетрадь – ту, что Командор привез из Салерно, – рассеянно бросила Пумита.
Кроче, вечно поглощенный хозяйственными и финансовыми заботами, решил направить разговор в иное русло:
– А что скажет наш друг Элисео Рекена?
В ответ раздался тонкий голосок огромного юноши-альбиноса:
– Теперь я очень занят, ведь Рикардито заканчивает свой роман.
Рикардо, покраснев, объяснил:
– Я ведь работаю без должного навыка, спотыкаюсь на каждом шагу, поэтому Пумита советует мне не спешить.
– Я бы на твоем месте спрятала все тетради в ящик и не трогала лет девять, – заметила Пумита.
– Девять лет? – воскликнул Командор с таким негодованием, что казалось, его вот-вот хватит удар. – Девять лет? Конечно, «Божественную комедию» опубликовали всего пятьсот лет назад! А сколько ждала своего часа!
Изобразив благородное негодование, Бонфанти поспешил поддержать Командора:
– Браво, браво! Нерешительность – чисто гамлетовская позиция, свойство северян. Римляне понимали искусство совсем иначе. Для них писать – абсолютно гармоничное и естественное занятие, танец, а не унылая обязанность, как для варваров; ведь эти последние монашеским умерщвлением плоти пытаются заменить искру вдохновения, в которой им отказывает Минерва.
Командор подхватил:
– Тот, кто не спешит тотчас записать все, что накручивается в его башке, – просто евнух из Сикстинской капеллы. Это не мужчина.
– Я тоже считаю, что писатель должен отдавать всего себя творчеству, – заявил Рекена. – Только не надо бояться всяких там противоречий, главное – выплеснуть на бумагу ту путаницу, что делает человека человеком.
Вмешалась Мариана:
– Вот, скажем, я, если пишу письмо маме и начинаю раздумывать, мне ничего не приходит в голову, а когда меня несет, то получается просто расчудесно – как-то сами собой незаметно заполняются многие страницы. Ты ведь, Карлос, даже как-то сказал, что я прирожденная писательница.
– Послушай, Рикардо, – опять подала голос Пумита, – не пренебрегай все-таки моим советом. Я считаю, тебе надо сто раз подумать, прежде чем публиковать свои сочинения. Вспомни-ка Бустоса Домека из Санта-Фе: напечатали однажды его рассказ, а потом выяснилось, что написал его вовсе не он, а Вилье де Лиль-Адан.[63]
Рикардо ответил ей очень резко:
– Не прошло и двух часов, как мы помирились… А ты снова за свое…
– Успокойтесь, Пумита, – вступился за него Рекена. – В романе Рикардито нет ничего от Вилье де Лиль-Адана.
– Ты просто не желаешь меня понять, Рикардо. Я ведь ради твоего же блага все это говорю. Сегодня я очень взвинчена, а вот завтра мы должны непременно потолковать начистоту.
Бонфанти, желая укрепить свою победу, изрек безапелляционным тоном:
– Рикардо слишком благоразумен, чтобы клюнуть на фальшивые приманки новомодного искусства, оторвавшегося от нашей американской – и испанской – корневой системы. Если писатель не чувствует, как по его жилам разливаются жизненные соки родной земли, – это déraciné, безродный чужак.
– Я вас просто узнать не могу, Марио, – откликнулся Командор. – Наконец-то вы оставили свое паясничанье. Настоящее искусство идет от земли. Этот закон всегда работает: самого благородного своего Маддалони я храню на дне винного погреба; во всей Европе, да и в Америке, произведения великих мастеров хранят в надежных подвалах, чтобы их не погубили, скажем, бомбы; на прошлой неделе один известный археолог принес мне маленькую терракотовую пуму, которую он откопал в Перу. Я заплатил за нее ровно столько, сколько она стоила, и теперь она хранится у меня в третьем ящике письменного стола.
– Как, разве это маленькая пума? – удивленно вскинула брови Пумита.
– Вот именно, – ответил Англада. – Ацтеки сумели кое-что предугадать. Но нельзя требовать от них слишком многого. Какими бы футуристами-расфутуристами они там ни были, скажем, оценить функциональную красоту Марианы все равно бы не сумели.
(Карлос Англада довольно точно передал этот разговор.)
В пятницу утром Рикардо Санджакомо беседовал с доном Исидро. Искренность его горя не вызывала никаких сомнений. Он был бледен, мрачен, небрит. По его признанию, минувшую ночь он не спал, вернее, не спал уже несколько ночей.
– Это дикость – то, что со мной происходит, – сказал он глухо. – Просто дикость. Вы, сеньор, смею предположить, прожили спокойную жизнь, будучи, как говорится, обитателем узилища, и вам трудно даже представить себе, что все это для меня значит. Я много чего пережил, но никогда не сталкивался с проблемами, которые нельзя было бы решить в мгновение ока. Скажем, когда Долли Систер явилась и сообщила, что у нее якобы будет от меня ребенок, старик, от которого трудно было ожидать понимания в таких делах, напротив, тотчас все уладил, выложив шесть тысяч песо. К тому же, признаюсь, меня порой чертовски заносит. В прошлый раз в Карраско я спустил в рулетку все до последнего сентесимо. Зрелище было знатное: тамошние типы, правда, попотели, чтобы втянуть меня в игру, зато потом за двадцать минут я продул двадцать тысяч песо. Представьте: мне даже не на что было позвонить в Буэнос-Айрес. И что вы думаете? Опять как с гуся вода. Я вывернулся из передряги ipso facto. Ko мне подскочил какой-то гнусавый коротышка – он очень внимательно следил за игрой – и дал в долг пять тысяч песо. На другой день я вернулся на виллу «Кастелламаре», все-таки имея в кармане какие-то деньги – хоть пять тысяч вместо тех двадцати, что вытянули у меня уругвайцы. А гнусавому я сделал ручкой.
Об историях с женщинами и говорить нечего. Хотите поразвлечься, спросите у Микки Монтенегро, что я за зверь. И так во всем: знали бы вы, как я учусь! Книг даже не открываю, а когда приходит день экзамена, все как-то само собой улаживается! Теперь мой старик, чтобы я поскорей выбросил из головы историю с Пумитой, решил сунуть меня в политику. Доктор Сапонаро, этот хитрый лис, говорит, что еще не знает, какая партия мне больше подходит; но готов побиться об заклад, в следующем тайме я окажусь в конгрессе. То же самое в поло. У кого лучшие лошадки? Кто был сильней всех в Тортутасе? Думаю, можно не продолжать, боюсь вас утомить.
Только, поверьте, это не пустое бахвальство, я говорю не ради удовольствия поговорить, как Барсина, которая чуть не стала моей золовкой, или как ее муженек – он принимается судить да рядить, например, о футболе, хотя ни черта в нем не смыслит. Нет, я хочу, чтобы вы представили себе всю картину. Итак, я собирался жениться на Пумите, у которой, конечно, имелись свои причуды, но вообще она была изумительной девушкой. И вот ночью ее кто-то отравил цианистым калием, и мы нашли ее мертвой. Сначала говорят, будто она покончила с собой. Полный бред – ведь мы собирались пожениться. Кто поверит, что я решил дать свое имя сумасшедшей, способной на самоубийство? Потом решили, что она приняла яд по рассеянности, – но для этого надо быть полной идиоткой! Теперь нам подкинули новую версию – убийство. А значит, все мы попадаем под подозрение. Что я могу на это сказать? Если выбирать между убийством и самоубийством, то меня больше устраивает последнее, хоть это и абсолютная чушь.