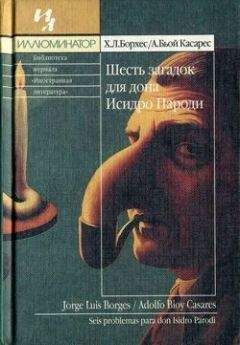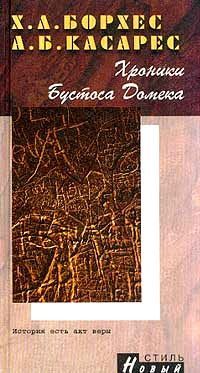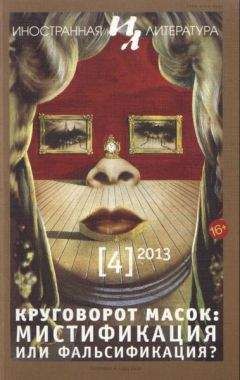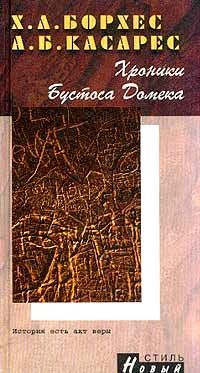– Провиант! – вскричал он. – Не успею я пересчитать пальцы на одной руке, как вы уже будете облизывать свои, дражайший мой Пароди. Лепешки из слоеного теста в меду! И приготовили их известные вам смуглые ручки; а блюдо, на коем покоятся лепешечки, украшено гербом и девизом «Hic jacet»,[75] принадлежащими нашей княгине.
Тут энтузиазм его был пригашен резной тростью – ею, как шпагой, размахивал Хервасио Монтенегро, словно воплотивший в себе всех трех мушкетеров сразу: монокль а-ля Чемберлен, черные живописно закрученные усы, пальто с обшлагами и воротником из выдры, широкий галстук с жемчужиной фирмы «Мендакс», обувь от Нимбо, перчатки от Балпингтона.
– Счастлив вас видеть, дорогой мой Пароди, – воскликнул он самым светским тоном. – Прошу простить моего секретаря за fadaise.[76] Нас трудно ослепить софизмами Сьюдаделы и Сан-Фернандо: всякий здравомыслящий человек признает, что Авельянеда заслуживает самого уважительного к себе отношения. Я неустанно повторяю Бонфанти, что весь этот его набор пословиц и архаизмов выглядит решительно vieux jeu,[77] неуместно; напрасно я пытаюсь направлять его чтение, даже самые строгие предписания: Анатоль Франс, Оскар Уайльд, дон Хуан Валера, Фрадике Мендес и Роберто Гаче – не смогли укоротить его мятежный дух. Бонфанти, перестаньте упрямиться и бунтовать, скорее поставьте эти лепешки, которые вы сумели благополучно донести, и отправляйтесь motu proprio на Ла-Роса-Формада, в Санитарное управление, где ваше присутствие может оказаться полезным.
Бонфанти пробормотал весь положенный набор слов – «низкий поклон, всегда к вашим услугам, счастлив, целую ручки» – и с достоинством упорхнул.
– Дон Монтенегро, пока вы не приступили к делу, – попросил Пароди, – окажите мне такую любезность, откройте оконце, не то мы тут задохнемся: эти лепешки, судя по запаху, жарилась на свином жире.
Монтенегро, ловкий, как заправский дуэлянт, вскочил на скамейку и выполнил просьбу учителя. Потом спрыгнул вниз, но особым манером, словно выступал перед публикой.
– Итак, пробил час, – сказал он, пристально глядя на раздавленный окурок. Затем достал массивные золотые часы, завел их и посмотрел на циферблат. – Сегодня семнадцатое июля, ровно год назад вы раскрыли мрачную тайну виллы «Кастелламаре». И теперь в этой дружеской обстановке я хочу поднять бокал и напомнить вам, что тогда вы пообещали, что через год, то есть как раз сегодня, откровенно расскажете о том, что же там произошло. Не стану лицемерить, дорогой Пароди, фантазер во мне порой побеждает человека делового, литератора, и я придумал некую интереснейшую и оригинальную теорию. Может, вы, обладая строгим умом, сумеете добавить к этой теории, к этой благородной интеллектуальной конструкции кое-какие полезные детали. Я не отношусь к числу архитекторов-одиночек: вот, я протягиваю руку за вашей драгоценной песчинкой, но оставляю за собой право – cela va sans dire[78] – отвергнуть сомнительные и неправдоподобные выводы.
– Не беспокойтесь, – сказал Пароди. – Ваша песчинка будет в точности похожей на мою, особенно если вы начнете рассказывать первым. Вам слово, друг мой Монтенегро. Как говорится, первые зернышки маиса – попугаю.
Монтенегро поспешно отказался:
– Нет, ни за что. Aprиs vous, messieurs les Anglais.[79] Да и не стану скрывать, что интерес мой к этому делу чудесным образом поослаб. Меня разочаровал Командор: я полагал его человеком покрепче. Он умер – приготовьтесь к мощной метафоре – на улице. Проданного на торгах едва хватило на покрытие долгов. Не спорю, положение Рекены вполне завидное, к тому же я приобрел на этих enchиres[80] Гамбургскую ораторию и ферму тапиров по смехотворно низкой цене, то есть совершил весьма выгодное приобретение. Княгине тоже грешно жаловаться: она перехватила у заморской черни терракотовую змею с fouilles[81] из Перу – ту самую, что Командор хранил в ящике письменного стола, а теперь змея царит – излучая мифологическое очарование – в нашей приемной. Pardon, ведь в прошлый раз я уже рассказывал вам об этой змейке, способной заражать душу непонятной тревогой. Как человек с отличным вкусом, я оставил было за собой также бронзу Боччони, весьма выразительного и таинственного монстра, но пришлось от него отказаться, потому что прелестная Мариана – простите, я хотел сказать сеньора де Англада – сразу прикипела к нему сердцем, и я решил благородно отступить. И гамбит был вознагражден: климат наших отношений теперь просто по-летнему тепел. Но я отвлекся и отвлекаю вас, дорогой Пароди. Я с нетерпением ожидаю вашего рассказа и готов заранее выразить свое полное одобрение услышанному. К тому же я имею право вести беседу с гордо поднятой головой. Конечно, слова эти могут вызвать улыбку у людей злоязыких, но вы-то знаете, что я свой долг оплатил сполна. Я скрупулезно, пункт за пунктом выполнил обещанное: кратко изложил вам raccourci[82] суть моих бесед с баронессой де Сервус, с Лолой Вакуньей де Круиф и с одержимой fausse maigre[83] Долорес Вавассур; я добился, пойдя на всякого рода хитрости и угрозы, чтобы Джованни Кроче, этот Катон бухгалтерского дела, рискнув своим авторитетом, посетил вашу камеру, прежде чем ударился в бега; я раздобыл для вас экземпляр убийственно ядовитой брошюры, которая разлетелась по столице и окрестностям: ее автор, пользуясь маской анонима – и при еще открытом кенотафе, – выставил себя на посмешище, предъявив публике какие-то примеры совпадений между романом Рикардо и «Святой вице-королевой» Пемана – тем самым романом, который литературные наставники Рикардо выбрали ему в качестве наиболее достойного образца. К счастью, этот дон Гайферос, а зовут его доктор Севаско, с большим трудом, но совершил-таки чудо: показал, что сочиненьице Рикардо хоть и перепевает некоторые главы из творения Пемана – такие совпадения были бы вполне простительны для первого выплеска вдохновения, – но его роман скорее можно счесть факсимиле «Лотерейного билета» Поля Груссака,[84] только действие перенесено, кстати весьма неуклюже, в семнадцатый век, и ловко закручено вокруг сенсационного открытия – спасительной благотворности военного призыва.
Parlons d'autre chose.[85] Исполняя самые странные ваши капризы, дорогой Пароди, я уговорил доктора Кастильо, этого Блакамана, помешанного на хлебе из отрубей и хлебном напитке, отлучиться на короткое время из своей водолечебницы и глянуть на вас опытным глазом клинициста.
– По мне, так довольно паясничать, – прервал его детектив. – В истории семейства Санджакомо накручено столько, сколько оборотов не суждено сделать ни одним часам в мире. Знаете ли, я начал связывать концы с концами в тот день, когда дон Англада и сеньора Барсина описали мне спор, случившийся в доме Командора накануне первого убийства. А то, что потом мне рассказали ныне покойный Рикардо, Марио Бонфанти, вы сами, управляющий и врач, только подтвердило догадку. А письмо, оставленное несчастным юношей, внесло окончательную ясность. Как писал Эрнесто Понсио:
Судьба – швея-усердница
стежок к стежку кладет.
Даже смерть старого Санджакомо и принесенная вами анонимная книжица по-своему оказались полезны, чтобы проникнуть в тайну. Не знай я дона Англаду, я бы подумал, что и он наконец прозрел. Доказательством тому – его рассказ о смерти Пумиты, который он начал аж с прибытия старого Санджакомо в Росарио. Воистину устами дураков глаголет истина, именно в ту пору и в том месте началась, собственно, вся история. Те, кто служит в полиции, гоняются, как правило, за самыми свежими сведениями и сплетнями. Вот и не обнаружили ничего: ведь их интересовали только Пумита, вилла «Кастелламаре» и год сорок первый. А я, столько времени проведя в узилище, заделался историком хоть куда, мне нравится заглядывать во времена, когда сам я был молодым человеком, меня еще не успели упечь в тюрьму и я имел пару-тройку товарищей-земляков, с кем поразвлечься. История, повторюсь, уходит корнями в далекое прошлое, а Командор тут – главная карта. Давайте-ка хорошенько приглядимся к этому чужеземцу. В двадцать первом году он, как нам сообщил дон Англада, чуть не лишился рассудка. А что же с ним такое приключилось? Умерла его супруга, которую ему доставили из Италии. Но он ведь и знал-то ее едва. Можете вы себе вообразить, чтобы такой тип, как Командор, сходил из-за этого с ума? По словам того же Англады, не меньше горевал он и из-за смерти друга – графа Изидоро Фоско. Я в это не верю, сущая ерунда! Граф был миллионером, консулом, и нашему герою, простому мусорщику, не давал ничего, кроме советов. Смерть такого друга – скорей облегченье, если только он вам не нужен, чтобы что-то из него вытягивать. К тому же и дела у Санджакомо к той поре шли неплохо: всю итальянскую армию он завалил своим ревенем, который продавал по цене лучших продовольственных товаров, за что ему даже присвоили звание Командора. Так что же с ним приключилось? Да самая обычная вещь, друг мой. Итальянка-то вместе с графом Фоско жестоко над ним насмеялись. Хуже всего было, однако, то, что, когда Санджакомо узнал об измене, коварные обманщики уже покинули сей мир.