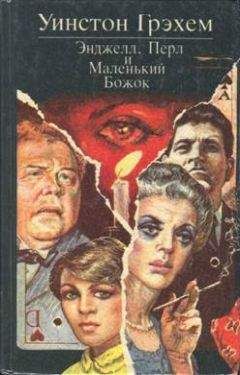Сейчас как раз время, чувствовал он, самое время положить всему конец. Разумеется, не их супружеской жизни, а ужасному, унизительному упражнению, которое так обессилило его, оказалось столь никчемным. При желании можно потихоньку вернуться к тому относительно счастливому статус-кво, к тем лишенным всякой двусмысленности дням, которые предшествовали прошлому понедельнику.
Но он не двигался. Он лежал молча, как и она. Потому что, опровергая его суждение, подрывая его решимость, словно вражеские войска, проникающие с тыла, в глубине его души зарождалось доселе неведомое ему чувство: тревожное сознание, что он не должен ее слишком глубоко обижать, и интуиция, что отвращение долго не продлится, что на смену ему снова явится вожделение.
На улице загудела машина, хлопнула дверца. Шум этот неприятно резанул ухо Перл, словно тяжелое хлопанье дверцы «дженсена», которое она так хорошо запомнила.
Она сказала:
— Вы никогда не рассказывали мне о своих родителях. Их уже давно нет в живых?
Он с трудом повернулся.
— Когда я родился, моей матери было сорок два — она была на десять лет старше отца. Да, их уже давным-давно нет в живых… Она была директрисой школы для девочек, пока не вышла замуж. Только подумайте, ей было 23 года, когда умерла королева Виктория. Все ее детство и отрочество прошли в викторианское время. Без сомнения, вам трудно представить, как все это недавно было, если подходить с точки зрения жизни поколения… Естественно, в раннем детстве я находился под сильным ее влиянием. Ее несколько примитивные убеждения… Даже сегодня мне бывает трудно отделаться от тех последствий, которые оставила во мне ее философия, к примеру ее вера в абсолютную взаимосвязь между грехом и возмездием, сходная с взаимосвязью между преступлением и наказанием. Очень трудно это преодолеть. Понимаете? Очень трудно.
С улицы в комнату долетали крики и смех, затем зашумел мотор, машина отъехала и голоса постепенно стихли. Перл лежала не двигаясь. К счастью, она не могла прочесть его мысли. Женским чутьем она угадывала, что поступает правильно, поощряя его в такой момент рассказывать о себе. Потерпев во второй раз фиаско, он находился в полном расстройстве, а он был из числа тех людей, которым несвойственно подобное состояние.
— Вам нравятся драгоценности? — вдруг спросил он.
Она едва могла поверить своим ушам.
— Кому? Мне? Да, очень нравятся.
— Когда аукцион Сотеби снова откроется, там наверняка что-нибудь появится, — сказал он все еще резким тоном, почти раздраженно. — Думаю, что-нибудь не слишком дорогое. Я никогда не собирал драгоценности.
— Вы хотите купить что-нибудь для меня, Уилфред?
— Ну… не совсем. В какой-то степени. Вы сможете их носить. Их можно застраховать.
— Это было бы великолепно! А какие драгоценности? — Она села на кровати. — Броши? Серьги?
— Самые разные. Имейте в виду, я не такой уж богатый человек. У меня масса долгов.
— Правда? Я не знала.
— Я задолжал разным дельцам, аукционистам. Я покупаю вещи, так сказать, в рассрочку. И до сих пор выплачиваю за Боннара[12], которого приобрел три года назад. И за Сислея[13], который висит в моей спальне.
— Мне очень нравятся изумруды, — минуту спустя проговорила Перл.
Он пояснил:
— Оправа часто бывает ценнее самого камня. Я хочу сказать, для знатоков…
— О, это будет чудесно, Уилфред!
Он тоже сел, прислонившись к спинке кровати, потер толстым большим пальцем лоб, откинул назад волосы.
— Драгоценности. Я вспомнил про Анну, у нее, пожалуй, было несколько хороших вещей… Она жила в одном из тех красивых особняков, что выходят на Риджент-парк. Анна унаследовала эти вещи от своей матери. Ее отец был вдовцом, и хозяйство вела экономка. А чаще этим занималась сама Анна, потому что экономка любила выпить, но жила у них очень давно — они не хотели ее прогонять. Как-то вечером, когда отца не было дома, а экономка, мы знали, напилась так, что не проснется до утра, мы решили встретиться, я собирался прийти к ней домой. Разумеется, с определенной целью. Мы тогда не были такими уж невинными, понимаете? Многие теперь говорят и пишут так, словно половой акт был открыт где-то в году шестидесятом. Но… спустя несколько минут, когда — как бы мне поделикатнее выразиться — когда это уже скоро должно было случиться, ее вдруг пронзила сильная боль. Острейшая боль. Я на цыпочках прокрался в столовую и принес ей брэнди. Но боль не проходила. Я оставался с ней, хотел позвонить и вызвать врача. Она сказала, что это неудобно в моем присутствии. Но я не мог оставить ее в таком состоянии. В конце концов боль утихла, но к тому времени она была уже слишком утомлена, чтобы заниматься любовью. Ей хотелось, чтобы я поскорее ушел. Она сказала, что, как только я уйду, она тут же позвонит доктору. И я ушел… Может, это покажется невероятным, но после этого я видел ее всего четыре раза.
— Что с ней было?
— У нее была самая ужасная болезнь. В ее возрасте неоперабельная. Просто не верилось. Ей было всего двадцать лет.
— Боже мой, как жаль! Представляю, как это было ужасно для вас. Кто бы мог подумать!
— Теперь все в прошлом. — Сознание, что его утешают, доставило Уилфреду удовольствие. И в какой-то степени уменьшило горечь сегодняшнего поражения.
Спустя немного Перл сказала:
— Почему вы говорите, что теперь все в прошлом?
— Потому что все похоронено — давным-давно похоронено вместе с ней, и лучше об этом забыть… В то время, естественно, все это имело для меня значение. Но с тех пор давно уже перестало волновать.
Помолчав, он вздохнул и сделал движение, чтобы встать.
— Об этой продаже драгоценностей у Сотеби, — напомнила Перл.
— Что ж, посмотрим. Я снова загляну в каталог. Возможно, чересчур дорого. Я не могу позволить себе быть расточительным.
— Те две картины, что висят в ванной, те что, вы сами признались, вам уже надоели, того русского, который жил в Париже. Почему бы их не продать?
— Не могу. Я не верну обратно их стоимость.
— Но ведь что-то вы за них получите?
— Конечно. Наверное, фунтов четыреста-пятьсот за обе.
— Ну так что же?
Уилфред в темноте обдумывал этот вопрос.
— Нет, нет. Они мне только временно надоели.
Перл сказала:
— Почему вы всего лишь четыре раза виделись потом с Анной?
— Господи, все в прошлом, и с ним покончено. Я не хочу больше вести об этом разговор.
Следующий раз Годфри явился во вторник, когда Уилфред ушел играть в бридж.
Она чуть не закрыла перед его носом дверь, но он как-то умудрился проскользнуть внутрь и стоял посреди холла, держа шляпу в руке, с извиняющимся и в то же время нахальным видом.
Он сказал:
— Я пришел лишь затем, чтобы повидать мистера Энджелла. Честное слово. У меня к нему дело. Я вас не трону. Да когда я вас трогал, кроме того раза?
Она обнаружила, что теперь боится его меньше, чем прежде. Его форменная одежда как-то принижала его, скрадывала его физическую привлекательность. Законные узы, связывающие ее с Уилфредом, тоже служили надежной защитой. И за этой надежной защитой она чувствовала себя повзрослевшей, поумневшей, более уверенной в себе.
Она сказала:
— Раз у вас поручение, вы бы лучше зашли к мистеру Энджеллу в клуб.
— Если он скоро вернется, может, мне лучше подождать?
— Он не скоро вернется. Сегодня он играет в бридж.
— Вот как, играет в бридж… Он меня не поблагодарит, если я нарушу ему игру. Леди В. этого не любит, я знаю. Может, я просто оставлю ему записку?
Она колебалась.
— Я просила мужа сказать вам, чтобы вы больше сюда не являлись. Он очень рассердится, если узнает, что вы меня опять беспокоили.
— Беспокоил вас? Бросьте, Устричка, это ведь неправда, самая настоящая неправда. Как это я вас беспокою, если просто зашел передать поручение?
— И прекратите так меня осматривать.
— Ну вот, теперь мне еще и смотреть запрещено. Ладно, я прикрою глаза рукой. Хорошо? Это вас устраивает?
— Если не хотите оставлять записку, тогда уходите.
— Я уйду. И приду через часок.
— Нет, больше не приходите.
— Да, но у меня важное дело.
— Скажите, я передам.
Годфри подумал и убрал руку, заслонявшую глаза.
— У вас найдется лист бумаги, Перл?
Она порылась в ящике столика, стоявшего в прихожей. Найдя блокнот, зажгла настольную лампу.
Он огляделся вокруг.
— А карандаш?
Она отыскала шариковую ручку и положила на столик. Он осторожно дотронулся рукой до ее руки, прежде чем она успела ее резко отдернуть.
Он сказал:
— Не пугайтесь, что тут темно.
Она ничего не ответила, а он пододвинул стул и начал писать. Писание давалось ему нелегко, или он нарочно тянул время. Она наблюдала за его сильными короткими пальцами, казавшимися неуклюжими за таким непривычным для них занятием.