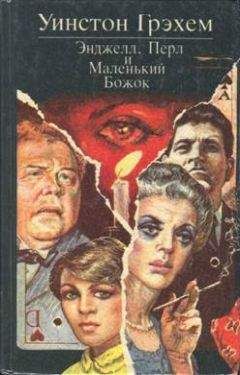Прозвучал второй звонок, а она все говорила. Он окинул ее презрительным взглядом.
— Тебя только послушать. Можно подумать, ты меня любишь.
Она схватила сумку.
— Короче, будешь ждать меня в понедельник? — спросил он.
Она не колеблясь ответила:
— Как хочешь.
— Значит, договорились. На, держи ключ от комнаты. Я буду где-нибудь около двенадцати. Они выставляют отсюда в одиннадцать. Значит, я буду к двенадцати. Если приеду раньше, у меня есть запасной ключ. Можешь приготовить обед.
Их взгляды встретились.
— Хорошо, — ответила она.
Они прожили бок о бок среду, четверг и пятницу в атмосфере молчаливой враждебности, мучительной для обоих. После долгих колебаний она решила отложить окончательный разрыв с Энджеллом до встречи с Годфри, но, встретившись с ним, не обрела той поддержки, которую искала. Ей так хотелось сказать Уилфреду: «Я ухожу к Годфри» вместо «Я возвращаюсь домой». И разрыв снова был отложен, на этот раз до понедельника.
Что касается Уилфреда, то всякий раз, вернувшись домой и найдя ее на месте, он облегченно вздыхал, хотя старался не выказывать своих чувств. Он со стыдом вспоминал, как унижался во вторник вечером. И старался выкинуть это из памяти. Если она вдруг объявит теперь об уходе, у него хватит сил вынести это, убеждал он себя, и с каждым днем, поскольку она оставалась с ним, его решимость крепла. Пройдет месяц, и ему вообще будет трудно поверить, что он когда-то пошел на столь малодушную уступку. А по прошествии нескольких дней, здраво поразмыслив, он уверился в том, что она просто ловко его обвела, обрушив на него свои обвинения и игнорируя все то, в чем он уличил ее. Женщина, виновная в адюльтере, не вызывает особой симпатии даже при современной свободе нравов. Он имел полное право дать ей развод и выдворить вон без единого пенни. Его собственные ответные действия выглядели бы лишь актом возмездия, заслуженной карой. Он глубоко негодовал на себя за то, что женщина вдвое его моложе сумела наглостью в открытом единоборстве взять верх над таким мужчиной, как он.
Все эти доводы казались ему особенно убедительными, когда он находился в конторе, обложенный розовыми и зелеными папками с документами. Но в ее присутствии весы правосудия пугающе перевешивали в другую сторону, напоминая о том, чего он может лишиться. Ее прекрасные ноги, которые она не стеснялась показывать, ее стройные округлые руки, нежный лоб и щеки, шея и грудь, сияющие голубые глаза и длинные белокурые волосы. Как несправедливо, что ее природные прелести до такой степени способны были нарушить осмысленное, спокойное течение его жизни.
Со вторника он не обедал дома, а в пятницу явился домой, явно показывая, что голоден, и Она зажарила ему кусок свинины и подала несколько сортов сыра. Как и завтраки, обед проходил в полном молчании, нарушаемом лишь звяканьем посуды. После обеда он сел у камина с сигарой и стаканом портвейна, а она занялась мытьем посуды. Вернувшись в гостиную, она заметила, что он читает «Боксерские новости», купленные ею сегодня. Он поднял голову, заметил ее взгляд и смущенно проговорил:
— Они высоко отзываются о Брауне, или о Воспере, они о нем высоко отзываются в этой вашей газете. Значит, поражение не причинило ему большого вреда. Он должен быть благодарен — получил возможность выдвинуться.
Она ответила, повторяя Годфри:
— Сломанный нос, восемь швов на щеках, два на лбу, сотрясение мозга, только и всего. За это, несомненно, стоит благодарить.
Энджелл уронил газету на пол и отпил глоток портвейна. Он упустил из виду, что ему не следует касаться этой темы чем дольше, тем лучше. Говори о чем угодно. Хвали ее платье, ее кулинарные способности, ее прическу. Он не должен рисковать своим будущим. Но теперь тема была затронута, вскрыта, словно вена. Теперь слабый аргумент Энджелла грозил перейти в сильное кровотечение.
— Я с ним вчера виделась, — сказала она.
Страх и ненависть душили его, но он упрятал их поглубже, чтобы они не обнаружились.
— Он в больнице Бетнал-Грин, — продолжала она.
— Этого следовало ожидать.
— Чего?
— Того, что вы к нему пойдете.
Она налила себе портвейна. Она не любила портвейн, слишком сладкое, приторное вино — символ обеспеченного существования.
— Ему все известно. О вашей договоренности с Джудом Дэвисом.
Стало так тихо, что было слышно, как в ванной пробили десять старинные французские часы из золоченой бронзы.
— Ничего не понимаю. Вы все придумываете. Что вы ему сказали?
— Ничего. Сделала вид, что ничего не понимаю. Но он все знает или догадывается, как и я. Он сказал, что рассчитается с вами обоими.
Энджелл поставил стакан на стол. Его сигара тлела в пепельнице.
— Я никогда не встречался с Дэвисом, не знаю даже, как он выглядит. Просто Браун страдает манией преследования. К тому же, как это он может с нами рассчитаться? Так вы, кажется, выразились?
— Мне кажется, тем же способом, что и вы с ним, — с издевкой заметила Перл.
Лицо Энджелла побледнело. Словно кровь вдруг схлынула в другое место, где в ней была большая нужда. Он застыл на своем стуле.
— Что за абсурд, — храбро заявил он. — Мы живем в цивилизованном обществе.
— Неужели?
— Человека могут отдать под суд за одни лишь угрозы. В некоторых случаях за угрозы могут даже отправить в тюрьму. Брауну следует выражаться поосторожней.
— Я ему так и сказала.
— Сказали, чтобы он был поосторожней?
— Да.
— И что он ответил?
— Не обратил никакого внимания. Абсолютно никакого.
Снова наступило молчание, часы в гостиной тоже пробили десять. Новая, внезапно возникшая опасность связала ему язык. Ему самому, а не его собственности угрожает физическая опасность. Что-то невероятное.
— Разумеется, это ерунда, — уверенно сказал он. — Пустые слова.
— Я тоже так думаю.
— Но и в пустых словах видна его зверская натура.
— А разве мы все не звери? — спросила Перл.
У них были билеты на концерт в Альберт-Холл в воскресенье, но она отказалась идти. За полчаса до концерта он отправился туда и попытался продать билеты. Это ему не удалось, и он сам пошел на концерт, Чтобы хотя бы не терять один билет. Когда концерт окончился, на улице уже стемнело, и он взял такси и поехал домой. Он не знал, давно ли Годфри вышел из больницы. Но понимал, что теперь ему, видимо, долгое время придется ездить домой на такси.
В понедельник утром он на час опоздал в контору, но, придя, тут же позвонил Винсенту Бирману. Бирмана он не застал, но тот сам позвонил ему в двенадцать, и они условились вместе пообедать.
Узнав, как развиваются события, Бирман сказал:
— Что касается меня, то я был нем как рыба. Вы меня знаете. Я не из болтливых. А Джуд Дэвис, как вы понимаете, не проговорится. Он рискует лицензией. Браун может только догадываться, а как он догадался, это уж не мое дело. Откуда вам известно, что он вас обвиняет?
— До меня дошли слухи. Он угрожает отомстить.
— Вам? Или вашему клиенту?
Энджелл кусал губы.
— Видимо, мне. Хотя я был всего-навсего посредником.
— Как и я. Мне кажется, он видел меня раз в вашей конторе. Может, отсюда все и пошло. Но не стоит принимать это всерьез. Чего там, какой-то жалкий, сломленный духом боксеришка. Ни связей, ни денег. И никаких доказательств. Ну что он может сделать?
— Еще супа. И принесите тертого сыра, — приказал Энджелл официанту. Он платил за обед в недорогом кафетерии на Флит-стрит. — Никто не знает, до чего может додуматься такой вот бешеный субъект, если станет раздувать обиду… Вы сказали — сломленный духом?
— Нет, спасибо, — сказал Бирман официанту, наблюдая, как Энджелл глотает суп. — Ему ведь сильно досталось.
— Вы там были? — Уилфред испугался.
— Да, старина, пришлось пойти. Я условился передать вторую тысячу в тот же вечер. Таков был уговор.
Чтобы скрыть досаду, Уилфред разломил булочку и положил кусок в рот.
— Дэвиса там не оказалось, — продолжал Бирман. — Он заболел или прикинулся больным, так что пришлось поехать к нему домой на такси, — кстати, еще десять шиллингов за ваш счет.
Энджелл сказал:
— Мой клиент, наверное, выжил из ума, что тратит такие суммы. Брауна, конечно, избили сильно, и все-таки… Помимо внешних повреждений… — Он доел остатки супа и с надеждой поглядел на Бирмана.
— Помимо этого разве можно обещать что-то определенное? — сказал Бирман. — Бокс — странная игра. Боксер идет на ринг, распустив хвост. Это, так сказать, психологическая сторона дела. Когда же ему подрежут крылышки, как подрезали вашему во вторник, с ним что-то происходит. Раны заживут — хотя и тут потребуется время: такого страшного удара правой, как у Кио, я, пожалуй, ни разу не видал. Это уже физическая сторона дела. Но и мозг тоже должен залечить раны. До этого он всегда выходил на ринг уверенный в победе. И побеждал, а если и проигрывал из-за подбитого глаза, то приписывал это невезению или убеждал себя, что судья ошибся в очках. Никто из них никогда не признается в поражении, у них всегда находится оговорка, только так они держатся на ринге. Но когда тебя вот так излупят, как вашего во вторник, тут уж не придумаешь оговорок. Начинаешь понимать, что есть кулаки покрепче, потяжелее, чем у тебя, и может случиться, что навсегда лишишься своего боевого задора. И тогда начинается закат. Закат может начаться и в двадцать три года. Одним словом, если говорить о Годфри Воспере — все дело случая. Поживем — увидим.