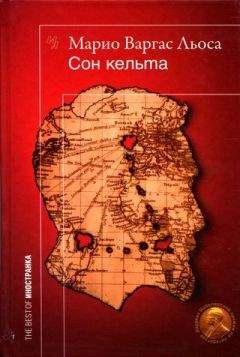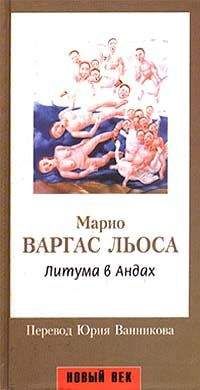– Я читал ваш рапорт, – сказал полковник. – Ваше начальство переслало его моему, а мое было так любезно, что сняло с него копию и отправило для ознакомления.
Голос его звучал все так же бесстрастно и размеренно. Литума видел, как налетевший ветерок дыбом поднял его редкие волосы; полковник тотчас их пригладил. Литума по-прежнему был сам не свой от страха и напряжен как струна, но перед глазами у него теперь стояли незваные и непрошеные тени Паломино Молеро и Алисии Миндро. Девушка, остолбенев, смотрела, как ее возлюбленного тащили к голубому грузовичку с заведенным мотором. По дороге на пустырь летчики, выслуживаясь перед начальством, прижигали сигаретами руки, шею и лицо Паломино и хохотали, слушая его крики. «Ужас, ужас, – стонуще повторял лейтенант Дуфо и вдруг, поцеловав скрещенные пальцы, выкрикнул: – Клянусь, ты пожалеешь, что на свет родился!» Лейтенант Сильва снова встал с перевернутой лодки, сунул руки в карманы, повернулся лицом к морю.
– Означает ли это, что дело положат под сукно, господин полковник? – спросил он не оборачиваясь.
– Не знаю, – сухо, словно этот вопрос был слишком несуразен или банален и заставлял его попусту тратить драгоценное время, ответил тот. И тут же добавил: – Нет, не думаю. По крайней мере, не сейчас. Это не так просто… Не знаю. Это будут решать в верхах.
«Решать будут тузы и шишки», – подумал Литума. Почему же полковнику вроде бы ни до чего нет дела? Зачем в конце-то концов он сюда явился?
– Мне нужно узнать у вас… – сказал полковник и осекся. Литуме показалось, что он скользнул по нему взглядом, словно только что обнаружил присутствие полицейского и сразу же решил, что при этой бессловесной твари можно говорить свободно. – Моя дочь говорила вам, что я обесчестил ее? Говорила?
Литума увидел, что его начальник, не вынимая рук из карманов, повернулся к полковнику.
– Дала понять, – ответил он. – Впрямую ничего сказано не было, но она намекнула, что была вам не только дочерью.
Он запнулся, смешался. Литума никогда еще не видел своего начальника в таком смущении. Ему стало жалко его. И его, и полковника, и Паломино, и Алисию – так жалко, что захотелось завыть, заплакать, пожалеть весь белый свет, в лоб его драть. Тут только он заметил, что дрожмя дрожит. Прав, прав был Хосефино: был он рохлей, рохлей и остался.
– Она сказала вам, что я целовал ей ноги, что после того, как это случилось, я ползал перед ней на коленях и умолял простить меня! – не спросил, а с полной уверенностью сказал полковник.
Лейтенант что-то пробормотал, а что именно – Литума не расслышал: он испытывал неодолимое желание убежать отсюда куда глаза глядят. Хоть бы пристали к берегу рыбаки, прервали этот мучительный разговор, а не рыбаки, так еще кто-нибудь.
– Она сказала, что я, обезумев от раскаяния, дал ей пистолет, чтобы она застрелила меня? – слышал Литума голос, звучавший теперь тихо, устало и доносившийся словно из дальней дали.
На этот раз лейтенант ничего не ответил. Наступило долгое молчание. Тень полковника была напряженно-неподвижна, причал, сотрясаемый ударами волн, ходил вверх-вниз. Рокот прибоя стал слабее, наверно, прилив кончался. Хрипло крикнула где-то рядом невидимая во тьме птица.
– Вам дурно? – спросил лейтенант.
– Есть такое английское слово «delusions», – твердо проговорил полковник, непонятно к кому обращаясь. – По-испански это понятие никак не передашь. «Delusions» – это одновременно и фантазия, и иллюзия, и заблуждение, и обман. Иллюзия, которая кончается обманом. Фантазия, которая оборачивается надувательством. – Он вздохнул так глубоко, словно долго был без воздуха, поднес ладонь к губам. – Я продал родительский дом, чтобы отправить Алисию в Нью-Йорк, я потратил на это все сбережения и даже то, что было скоплено на отставку. В Америке творят чудеса, излечивают любые болезни, не так ли? А если так, то любые жертвы оправданы. Надо было спасать девочку. И меня тоже. Но ее не вылечили. Не вылечили, хотя и определили ее болезнь. Она называется «delusions». Ее не вылечили, потому что болезнь ее лечению не поддается. Напротив, она идет вширь и вглубь. Она разрастается, как раковая опухоль, до тех пор, пока остается порождающая ее причина. Гринго объяснили мне это со свойственной им прямотой и грубостью: вы – причина ее болезни, в вас – корень всех ее бед. На вас она возложила ответственность за гибель матери, которую никогда не знала. Она придумывает про вас ужасные вещи, она сочиняет про вас чудовищные небылицы, придумывает и рассказывает их монахиням из обители Сердца Христова в Лиме и из Лурдского монастыря в Пиуре, и своим тетушкам, и подругам. Она говорит, что вы издеваетесь над нею, что вы мучаете ее, что вы скупы, что вы привязываете ее к кровати и хлещете ее плетью. И все затем, чтобы отомстить за мать, за мать, которую она даже никогда не видела. Это еще не все, сказали мне, приготовьтесь к худшему. Когда она вырастет, она обвинит вас в том, что вы хотели ее убить, что вы покушались на ее честь, что вы изнасиловали ее. И никто никогда не втолкует ей, что все это – ложь. Поймите, она живет своими фантазиями и убеждена в их реальности. «Delusions» – вот как это называется по-английски. У нас такого всеобъемлющего понятия нет.
Снова воцарилось молчание. Слышался только рокот прибоя. «Впервые я наслушался таких слов», – подумал Литума.
– Разумеется, все это так, – почтительно-суровым тоном заговорил лейтенант. – Но тем не менее фантазии или даже душевное нездоровье вашей дочери всего не объясняют. – Он помолчал, ожидая, быть может, возражения полковника или подыскивая слова. – Того, например, зверства, которое было учинено над Паломино Молеро.
Литума зажмурился. Вот он: вот он стоит на каменистом пустыре под безжалостным солнцем, замученный пытками, и на теле его нет живого места, а вокруг пасутся ко всему равнодушные козы. Он удавлен, он обожжен, он посажен на кол. Бедный Паломино.
– Это совсем другое, – начал полковник и сейчас же осекся. – Да, не объясняет, – добавил он через минуту.
– Вы задали мне вопрос, я на него ответил. Теперь позвольте и мне спросить. Зачем надо было так мучить его? Я спрашиваю вас, потому что сам понять не могу.
– Я тоже, – с ходу ответил полковник. – А впрочем, нет. Я понимаю. Сейчас понимаю. Тогда не понимал. Дуфо был пьян и напоил своих людей. Алкоголь и отчаяние сделали из бедняги настоящего зверя. Отчаяние, несчастная любовь, попранная честь… Все это существует на свете, хотя полиция об этом не знает. Дуфо не казался мне способным на такое. Застрелить Паломино. Закопать его тайно. Таков был мой приказ. А устраивать бессмысленное изуверство – нет. Впрочем, это тоже не имеет теперь никакого значения. Сделанного не поправишь, каждый должен отвечать за свое. Я к этому готов.
Он снова с жадностью глотнул воздуха. Литума услышал голос лейтенанта:
– Итак, вас при этом не было. А кто был? Лейтенант Дуфо со своими дружками?
Литуме почудилось, будто полковник прищелкнул языком, словно собирался сплюнуть. Однако не сплюнул.
– Я хотел, чтобы этот выстрел утишил его гордыню, – сухо ответил полковник. – Я был поражен. Я не думал, что он способен на подобную жестокость. Он и его люди. Это были его приятели. В конце концов в каждом человеке дремлет зверь. В каждом. Уровень развития тут роли не играет. Впрочем, полагаю все же, что в низших слоях общества, среди метисов это начало сильней. Затаенная обида, сознание своей неполноценности… Водка и субординация довершили дело. Разумеется, в этом мучительстве не было ни малейшей необходимости… Вы хотите знать, раскаиваюсь ли я? Нет, не раскаиваюсь. Можно ли спустить рядовому, который похитил и обесчестил дочь своего прямого начальника? Но я бы сделал это быстро и чисто. Пуля в затылок – и кончено!
«Да у него та же болезнь, что и у Алисии, – подумал Литума, – как ее: "дилюженс", что ли».
– Разве он ее обесчестил, господин полковник? – сказал лейтенант, и Литума в очередной раз удивился, до чего же схожие мысли приходят им обоим в голову. – Еще можно допустить, что он ее похитил, хотя правильней было бы сказать, что они бежали. Они были влюблены и собирались обвенчаться. Это может засвидетельствовать весь Амотапе. О каком насилии может идти речь?
Снова послышалось Литуме щелканье, предшествующее плевку. Когда же полковник заговорил, он вновь увидел того не терпящего возражений деспота, который принимал их у себя в кабинете на авиабазе.
– Дочь командира Таларской базы ВВС не может влюбиться в рядового, – сказал он, сердясь уже на то, что приходится объяснять столь очевидные вещи. – Дочь полковника Миндро не может влюбиться в гитариста с улицы Кастилии.
«Яблочко от яблони недалеко падает», – подумал Литума. Как ни сильна была ненависть Алисии к отцу, но именно от него унаследовала она пренебрежение ко всем небелым.
– Я ведь это не выдумал, – услышал он мягкий голос своего начальника. – О предполагаемом венчании сообщила нам сама сеньорита Алисия. Сама. Мы никаких вопросов ей не задавали. Она нам сказала, что любила Паломино, что он любил ее и что они обвенчались бы, случись в то время в Амотапе священник. Какое же это насилие?