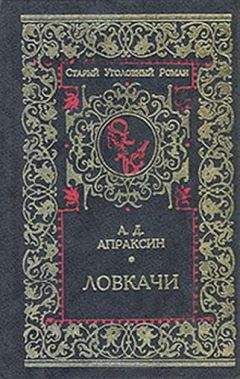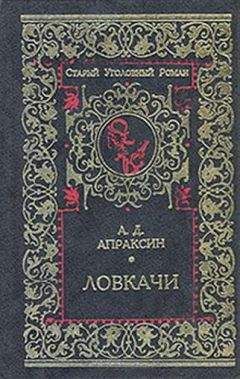— К сожалению, Зинаида Николаевна, на деле оно совсем иначе! — воскликнул действительно с прискорбием Огрызков. — Хмуров — человек, которому, по-видимому, в жизни все легко дается; а есть завистливые натуры на свете Божием, и вот этим-то завистливым натурам удача другого всегда поперек горла стоит. Что меня лично касается, я вам откровенно свое мнение высказал и всегда готов подтвердить, что Иван Александрович человек очень милый и симпатичный. Я его люблю. Но другие… Есть такие господа, которые готовы бы были его на клочья разорвать, в особенности с тех пор, как стало известно, что вскоре состоится ваша с ним свадьба.
— Вы меня пугаете! Как бы в самом деле ему не нанесли какого вреда? Может быть, вся эта внезапная поездка, болезнь дяди — все это вымысел, чтобы только удалить его на время от меня?
— Этого я не думаю, но что враги его, узнав теперь о необходимости ему неожиданно поехать в Варшаву, будут злорадствовать по этому поводу, — в этом я не сомневаюсь.
— Но кто же эти враги? Ради Бога, умоляю вас! Это слишком важное дело! Этим нельзя шутить! Вы должны, по крайней мере, предупредить меня, предупредить его, чтобы и он, и я — мы могли бы остеречься. Это ужасно!
Огрызков был очень рад хоть раз в жизни сыграть важную роль. По свойственной ему вообще болтливости он наговорил более, нежели следовало, а теперь, конечно, удержаться уже не мог.
— Главный и самый опасный его враг, — сказал он, — не кто иной, как ваш квартирант во флигеле…
— Как?! Степан Федорович Савелов? Да не может быть? Человек такой порядочный.
— Порядочный, аккуратный, если хотите, даже очень честный, — подтвердил Огрызков, — но помешанный на каких-то скучнейших принципах и вечно всем читающий мораль. В каждом деле, в каждом человеке он старается доискаться самой основы, а это редко когда до добра доводит, и лучше всего жить, как мы все живем, просто веря друг в друга и допуская, что если сами мы с изъянцем, то и в других недостатки простительны. А Степан Федорович Савелов уж кого невзлюбит, того так или иначе да доконает, и называет он это «на чистую воду вывести».
— Но почему же он Ивана Александровича невзлюбил? — в удивлении спросила Миркова.
— Как почему? Да по той весьма понятной причине, что вами он взыскан.
— По какому праву? — гордо спросила она. — Кто такой господин Савелов и как смеет он даже говорить о моем выборе?
— Вот то-то же и есть, Зинаида Николаевна! — согласился Огрызков. — Савелов всегда так претендует там, где бы ему и думать и мечтать не следовало бы. А впрочем, все это выеденного яйца не стоит-с… Сегодня ночью ждите с дороги депешу, завтра другую, а едва Иван Александрович в Варшаву прибудет и толком положение дел разузнает — сейчас же вам подробнейший отчет.
— Нет, подождите, Сергей Сергеевич, я вас не пущу. Мне еще надо все это выяснить.
Он сел покорно и ждал.
Сергей Сергеевич Огрызков вообще был болтлив по природе. В данном же случае он настолько симпатизировал Мирковой, что счел даже своею священнейшею обязанностью точнее определить самых опасных врагов ее возлюбленного Хмурова.
Таким образом, он явился вдруг помощником отсутствующего Ивана Александровича, и помощником даже весьма полезным.
— Степан Федорович Савелов, — заговорил он снова, когда Зинаида Николаевна уговорила его еще остаться, — не без причины ненавидит, по крайней мере теперь, Ивана Александровича.
— Неужели же, — воскликнула она в крайнем удивлении, — Степан Федорович хоть минуту единую считал себя вправе думать, что я когда-либо обращу на него особое внимание?
— По-видимому, оно так, — подтвердил Огрызков. — Я даже уверен, что и флигель-то в вашем доме он снял не без цели.
— Какая же цель?
— Он надеялся на более близкое знакомство, на более простые, то есть не столь официальные, отношения, на прием у вас в доме в качестве почти своего человека…
— Да? — переспросила она. — В самом деле! Смешно даже подумать! Господин Савелов в конце концов рассчитывал, что смирно и одиноко существующая еще молодая вдова если не влюбится в него за его личные достоинства, то хоть от скуки выйдет за него замуж. Не так ли!
— По-видимому.
— Жестокое разочарование! — с почти злобною усмешкою сказала она. — Вы можете ему это передать, Сергей Сергеевич. Для меня господин Савелов никогда ничем иным не был, как еле-еле знакомым и отнюдь не интересным человеком. Теперь он мой квартирант, но надеюсь, что и от этой чести он меня скоро избавит. Мне, признаться, неприятно знать, что в двух шагах от меня живет личность, ненавидящая того человека, который скоро будет моим мужем. Что же касается его злобы против Ивана Александровича, то в моих глазах она совершенно бессильна, и я только не советовала бы господину Савелову особенно громко клеветать на человека, который всегда сумеет за себя и за свою честь заступиться.
Огрызков смотрел на Зинаиду Николаевну и был поражен столько же твердостью ее речи, сколько и всем ее видом.
В эту минуту она была не только хороша, а даже обольстительно прекрасна.
Щеки ее запылали румянцем, чудные глаза заискрились и как бы еще расширились. Не было сомнения, что в случае чего — она сама сумела бы отстоять честь того человека, которого любила и в честь которого, разумеется, верила. С другой стороны, она сразу расположилась в пользу Огрызкова только потому, что он явно был на стороне ее избранника. Желая выразить это и поблагодарить его за участие, она, прощаясь, просила его приезжать сколько можно чаще. Она сказала ему:
— Кроме того, вы мною уполномочены объявить всем и каждому, кто бы ни вздумал заинтересоваться мною и Иваном Александровичем, что вопрос о нашей свадьбе решен между нами бесповоротно и что официальное обручение состоится тотчас же по возвращении его в Москву.
Огрызков откланялся и уехал.
Он едва дождался вечера, то есть обычного обеденного часа в Эрмитаже, чтобы все разболтать поскорее и поделиться со знакомыми и приятелями пикантными, интересными новостями.
И в этот, и в два-три последующих дня он всем и каждому повторял от начала до конца всю историю, причем от одного только Савелова скрыл ту часть своей беседы с Мирковой, которая касалась его.
Таким образом, Степан Федорович, ничего не подозревая, знал только факт внезапного отъезда Хмурова и объявления Мирковой о предстоящем ее браке с ним.
— Тут что-то странное во всей этой истории, — сказал он и стал расспрашивать Огрызкова, особенно интересуясь подробностями его беседы с Иваном Александровичем.
— Эх, — заметил ему в конце концов тот, — тебе бы судебным следователем быть, право!
Но Савелов ему ничего на это не ответил, а, встревоженный более, нежели когда-либо, поехал к своему приятелю полковнику.
— А я к тебе собирался, — встретил его тот у себя.
Когда они уселись, Савелов рассказал ему все, что сейчас слышал от Огрызкова, и прибавил:
— Хоть убей меня, а я чую тут какую-нибудь подлость. Этот гусь неспроста уехал, именно в такой момент, когда присутствие его при Зинаиде Николаевне, казалось бы, становилось наиболее необходимым.
— А я кое-какие сведеньица, со своей стороны, тоже получил.
— Что ты говоришь?
— Очень просто, — с невозмутимым хладнокровием ответил полковник. — Говорю, что сам вот сейчас собирался к тебе ехать. К обеду тебя поджидал…
— Никак не мог. Заговорился с Огрызковым. Все его расспрашивал. Ведь, оказывается, Хмуров его к Зинаиде Николаевне посылал. Никак я приехать к тебе раньше не мог.
— А напрасно. Нет, в самом деле! Была каша гречневая, какую ты любишь, рассыпчатая; борщ, а потом на жаркое телячьи котлеты отбивные…
Не это интересовало Савелова. Он спросил:
— А какие известия ты получил? Не томи, пожалуйста.
— Зачем томить, да и волноваться опять-таки дело вредное, — вразумительно пояснил он. — Вот давай чайку попьем, и я тебе все по порядку расскажу.
Но Савелов выходил из себя. Он встал с широкой оттоманки и, подойдя к письменному столу, за которым сидел полковник, сказал ему:
— Твоя флегма хоть кого из терпения выведет! Ведь ты отлично знаешь, что каждый вопрос, касающийся этого человека, для меня чрезвычайно важен. Ты слышишь, что он куда-то поспешно бежал из Москвы, даже и не простившись лично с женщиною, готовою ему доверить и все свое состояние, и всю свою жизнь! А, ты улыбаешься…
— Я улыбаюсь твоей поспешности, — сказал полковник. — Садись и слушай, если тебе чаю еще не хочется.
Савелов сел, но полковник не сразу еще приступил к делу. Он поправил свечи на письменном столе, закурил папиросу, два раза затянулся полною грудью и, наконец, глядя прямо на приятеля, сказал:
— Хмуров действительно оказывается бродягой, да еще высшей руки.