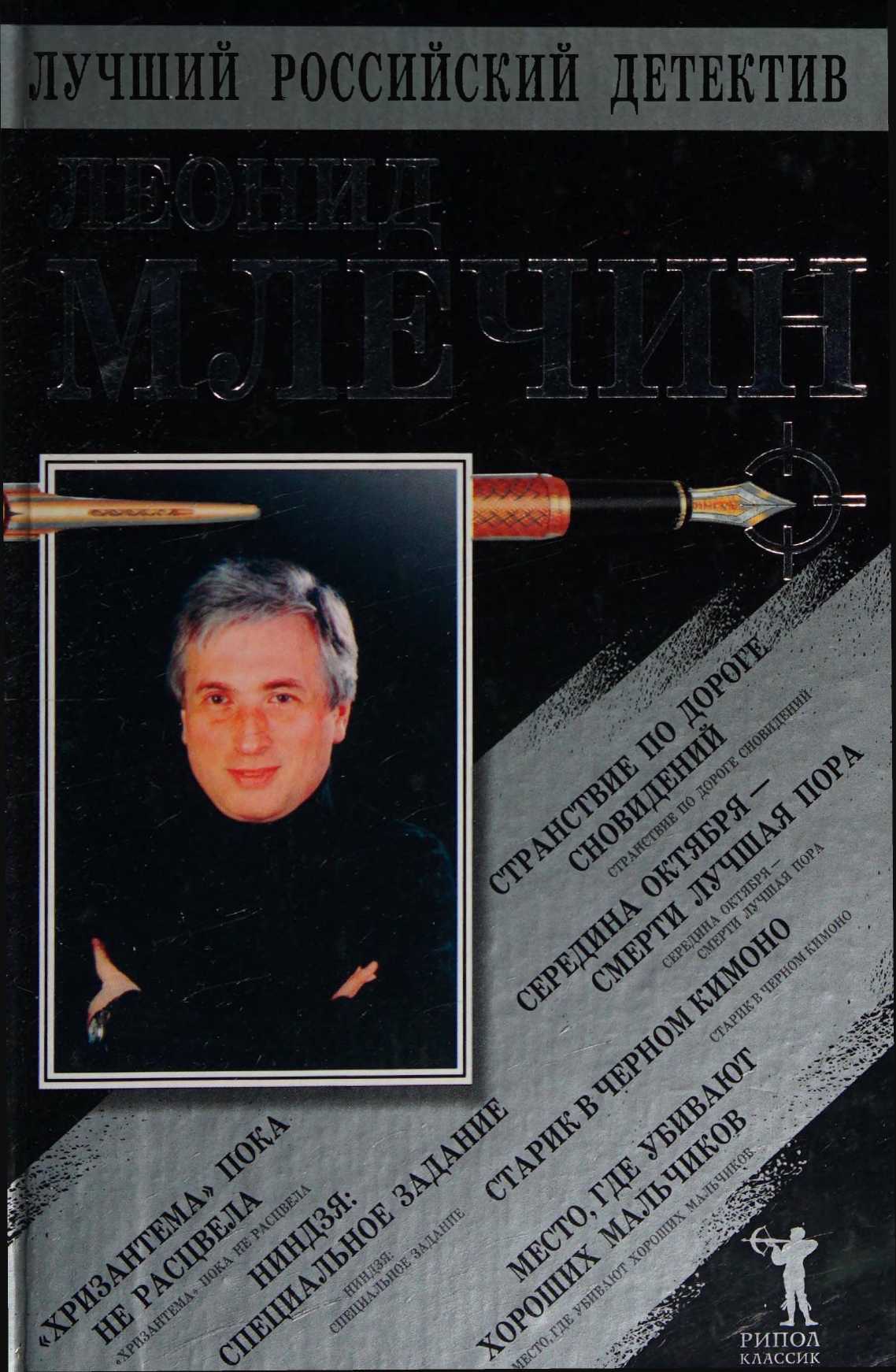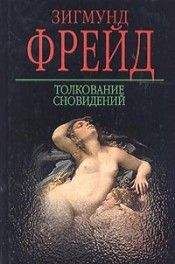а ты кормишь деликатесами врагов Японии. За это полагается трибунал, — сказал капитан, удовлетворенный осмотром своей перчатки.
Сонода стоял молча, опустив руки. Для него все было кончено. Трибунал отправит его на фронт — в Бирму или куда-нибудь на острова, откуда нет возврата. Прощай, спокойная, почти счастливая жизнь, открывавшаяся ему в Сингапуре.
— Кому ты это нес? — так же спокойно спросил капитан. — Только не ври.
— «Крысе». Военнопленному, которого называют «Крысой», — поправился Сонода.
— Кто он — англичанин, австралиец?
— Я не знаю, — искренне ответил Сонода.
— Приведешь его ко мне ночью, — приказал капитан. — Но так, чтобы он ни о чем не догадался.
Носком сапога он брезгливо подтолкнул коробку с сардинами, валявшуюся на песке, поближе к Сонода.
— Подбери это.
…Столько лет минуло. Он думал, что все умерло, а стоило появиться этому японцу — и прошлое вновь вернулось. От прошлого нельзя избавиться, со страхом подумал Сонода. Но почему? Зачем им всем понадобилось вспоминать этот лагерь, который погребен под гигантским аэропортом Чанги?
— А что было дальше? — подгонял его Кэндзи Фуруя. Он слушал Сонода с особым интересом.
Стоукер разговаривал с Цюй Линем уже больше двух часов. Секретарь депутата дважды осторожно заглядывал в дверь, но Цюй Лин никак не реагировал на его появление. Секретарь уже отменил несколько важных встреч и теперь говорил посетителям, что, судя по всему, им придется прийти в другой день. Депутат очень занят. Дело государственной важности.
— Вы интеллигентный человек с определенными морально-этическими принципами, переступать через которые не станете. Вы не вступили в отряды «добровольческой армии», не участвовали в работе созданных японцами консультативных советов. Все это, должно быть, так. И все же вы служили этому режиму. Пусть самым безобидным образом — переводя с японского на китайский или малайский и наоборот. Но ведь вы переводили не иностранных ученых или специалистов, которые обычно приезжают в чужую страну с добрыми целями, а офицеров, в том числе жандармских. Разве вы тем самым не соучаствовали в их преступлениях? — говорил Стоукер.
Цюй Лин покачал головой.
— Меня не привлекали к участию в допросах. Повторяю: прямой вины за мной нет. Хотя… В ваших словах есть некая доля правды. Но я же объяснял вам, что не мог отказаться. Они посадили бы в лагерь меня. И еще неизвестно, как бы они поступили с моей семьей. Хотел бы я знать, что бы вы стали делать на моем месте?
Стоукер пожал плечами.
— Полагаю, что служить оккупантам — даже в скромной роли переводчика или официанта в их столовой — не стал.
Цюй Айн тяжело посмотрел на него.
— Каждому из нас легко давать такие клятвы, находясь на безопасном историческом расстоянии от реальных обстоятельств, способных и сломить, и заставить расстаться с иллюзиями в отношении самого себя, и забыть о своих принципах. Хотите я расскажу одну историю?
Стоукер кивнул.
— Это произошло в 1944 году. Меня ночью вызвали в комендатуру. И на машине меня отвезли в Чанги. Ехали молча по тихому и темному ночному городу. Сингапур являл собой тягостно зрелище. Я помнил его светлым и веселым — а тут непроглядная тьма и полная тишина. Город испуганно притих, и только наша машина мчалась по улицам к Чанги.
В первый и последний раз я побывал в Чанги, но была ночь, и я ничего не увидел. Меня провели в штаб. В комнате с плотно завешенными окнами сидел японский офицер с погонами капитана. Он молча кивнул мне на стоявший у стены стул, посмотрел на часы и уткнулся в газету. У меня часов не было, и я не знал, сколько именно пришлось ждать, но полагаю, не менее часа. Потом в дверь постучали. Капитан свернул газету. Заглянул сержант, который привез меня в лагерь, вопросительно посмотрел на капитана. Тот кивнул. В комнату ввели пленного со связанными руками. Сесть ему не разрешили.
Я думал, что это английский офицер, но когда он стал отвечать на вопросы японского капитана, по акценту понял, что передо мной американец.
Глаза Фуруя горели, они словно подгоняли Сонода, и тот, рассказывая, старался смотреть куда-нибудь в сторону.
— «Крыса» выглядел очень внушительно. Он был на две головы выше меня, широкоплечий и плотный. Пленные в лагере больше походили на ходячие скелеты, а этот даже и похудеть не успел. По-моему, он ухитрялся даже не ходить на работу — пилить лес и прокладывать дороги. И рядом с помощником коменданта он тоже выглядел внушительно. По крайней мере, первые несколько минут, пока капитан задавал обычные вопросы: имя, возраст, воинское звание. Потом помощник коменданта заставил меня рассказать о том, что я передавал «Крысе» всякую еду в обмен на ценные вещи. Когда я закончил, помощник коменданта сказал, обращаясь к «Крысе»: «Его рассказа вполне достаточно для того, чтобы утром отрубить тебе голову. Но я не верю, что ты добывал еду просто так. Ты и твои друзья решили бежать, и еда вам нужна для побега. Это утяжеляет твою вину. Теперь я уже не могу просто так казнить тебя. Я должен знать имена твоих сообщников, чтобы предупредить это преступление. Возможно, ты не захочешь говорить — из дружеских чувств или соображений офицерской чести. Я уважаю подобные чувства у людей, но вы все — животные, и человеческих чувств у вас быть не может. Поэтому я намерен любыми средствами узнать имена преступников. Я даю тебе три минуты на размышление».
Помощник коменданта вытащил большие часы, щелкнул крышкой и положил их на стол.
Иноки поехал домой, чтобы несколько часов, поспать. Его место в машине возле дома, где жил Тао Фану, занял другой сотрудник сингапурской резидентуры исследовательского бюро при кабинете министров. Но ожидания японцев были напрасны. Тао Фану не вернулся в свою квартиру. Японцы действовали неосторожно. Подходя к дому, Тао обратил внимание на дежурившую у подъезда машину. Тао записал ее номер и исчез. Чутье у него было поразительное. Впрочем, для человека, который большую часть жизни провел на нелегальном положении, это более чем естественно.
Трижды сменив такси, Тао Фану перебрался в другой район города, где у него была запасная квартира, и принялся упорно набирать один и тот же номер, который не отвечал. Тао Фану снимал трубку каждые десять минут, но нужный ему человек отсутствовал.
— Поверьте, я ничего не мог поделать, — продолжал Цюй Айн, — отказаться переводить? Этот жандармский капитан нашел бы другого переводчика, а я наверняка лишился бы возможности беседовать с вами…
Стоукер пожал плечами.
— Ваш соотечественник, несмотря на всю его внушительную внешность, — продолжал Цюй Лин, — оказался трусом.
«Большим, чем вы?»