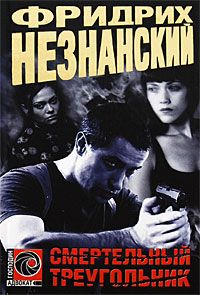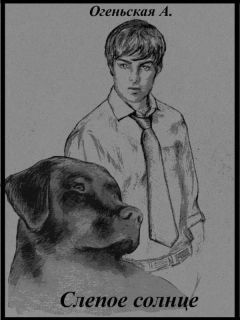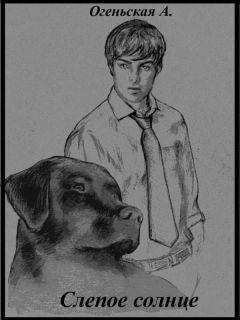— А она принимала вообще снотворное? — поинтересовался Гордеев.
— Как вам сказать?.. Я точно не знаю, мы последний год не слишком часто виделись. Я уверена лишь в том, что последнее время Мила Монахова пребывала в депрессии, так как незадолго до гибели развелась со своим американским мужем. И сильно переживала это событие. После очередных съемок она вернулась из Лос-Анджелеса в Москву, где и прожила два последних месяца.
— Пребывая в депрессии? — снова уточнил Гордеев, слегка поеживаясь.
— Да.
— Вы знаете ее лечащего врача?
— Кажется, она советовалась с нашим семейным доктором, но он живет в Киеве. Михаил Яковлевич Рубин.
— Он может знать про снотворное и прочие частные обстоятельства ее душевного здоровья, верно?
— Вот что значит настоящий адвокат! — Она посмотрела на него с нескрываемым восхищением.
— Не подлизывайтесь, я еще ничего не сделал. У вас есть его координаты?
Она достала электронную записную книжку — дитя современного мира — и, немного пощелкав кнопочками, продиктовала Гордееву телефон киевского семейного доктора.
— Спасибо... Значит, вы редко виделись, несмотря на то что она была в Москве?
— Увы, так уж вышло. Кто мог знать, что эти восемь недель — последнее, что ей осталось? Я бы тогда ни на шаг от нее не отходила.
— Яна, скажите откровенно, вы были близки с сестрой? Вы не были в ссоре на момент ее гибели? Как часто вы ссорились?
— Мы вообще не ссорились! — возмутилась девушка.
— Так уж и вообще?
— Мы слишком нечасто для этого виделись, чтобы так бездарно тратить время.
— Иногда родственники редко видятся именно в силу плохих отношений.
— Это не наш случай, — запротестовала Яна. — Спросите кого хотите!
— Кого, например?
—Да хоть того же Рубина!
— Спрошу непременно, — пообещал Гордеев. — Значит, вы с сестрой были близки?
Яна задумалась:
— Раньше — очень. Но... у нас все-таки большая разница в возрасте — почти пятнадцать лет.
— Иногда это, наоборот, помогает сблизиться, — заметил Гордеев.
— Наверно, мы просто не успели. Я жила с отцом в Киеве, а она уже много лет была в Москве — снималась в кино, играла в театре. Потом у нее и международная карьера началась. Да вы, наверно, знаете. А когда я сюда перебралась — она опекала меня в профессии, это правда. И конечно, все то, что со мной происходит, ей было небезразлично — факт. Но так, чтобы мы делились друг с другом личной жизнью...
— Что, неужели совсем никогда? — прищурился Гордеев.
— Ну бывало, конечно, — созналась Яна.
— Ладно, вернемся к этому при необходимости, — не стал вдаваться в нюансы адвокат. — Вы сказали, что жили в Киеве. Расскажите про вашу семью: кто ваши родители, чем они занимаются?
— Они уже умерли.
— Извините, я этого не знал. Давно?
— Мама — давно, я ее почти не помню. А отец — два года назад. Тогда я окончательно перебралась в Москву.
—Чем они занималась?
— Мама была оперная певица. Наверно, Мила пошла в нее. У нее ведь были значительные вокальные способности...
— Подождите, но ведь это вы играли в мюзикле, если я правильно понял?
— Ну что вы, — засмеялась Яна, — какое там пение! Так, чужая фонограмма в основном... Только я этого вам не говорила, имейте в виду.
— Я — могила, — заверил Гордеев, хотя, конечно, ничего принципиально нового про отечественную эстраду он сейчас не услышал. — А отец?
— Наш папа был знаменитый инженер-мостостроитель, кучу мостов по всей стране построил, я СССР имею в виду, — уточнила она. — Но в последние годы он уже из Киева никуда не выезжал, преподавал в основном. Я знаю, что Милка предлагала ему перебраться в Европу, а то и в США, говорила, что он там запросто работу найдет, в каком-нибудь Гарвардском университете сможет лекции читать... Но он не хотел, говорил, что ему и в Киеве неплохо, говорил, что хочет быть ближе к маме. Так и получилось...
— Как ваш отец относился к Миле?
— Он ее обожал, — не колеблясь, сказала Яна.
— Она была его любимицей?
— Нет, — после паузы сказала она. — Раньше мне так казалось. Но это было потому, что я жила вместе с ним, а она была на расстоянии. А потом я тоже стала надолго уезжать — в Москву — и все поняла.
— Это называется жизненный опыт.
— Ну вроде того...
— У вас есть еще какие-нибудь близкие родственники?
— В Киеве есть тетки со стороны матери, но я с ними не общаюсь.
—А Мила общалась?
— Тоже нет... Да, еще одна вещь... — Она замялась. — Я думаю, вы сыщик опытный и все равно сможете это сами выяснить, так что...
—Я не сыщик, — прервал ее Гордеев, — я адвокат.
— Ну неважно. В общем, у нас дома были картины. Не очень много, но... это русский авангард начала века. Малевичи там всякие, может, знаете?
— Однако! — пробормотал Гордеев.
— А вот я не очень в этом разбираюсь, да они мне никогда и не нравились. Это отец собирал. Кое-что ему еще по наследству досталось. В общем, я продала эту коллекцию, когда... ну после его смерти, через полгода, когда вступила в права наследства, так, кажется, это называется, да? Оказалось, что они стоили кучу денег.
— Еще бы, — усмехнулся Гордеев.
— Представляете? — со смехом сказала она. — Отец же мне все завещал, у Милки и так все было в порядке. В общем, я с ней посоветовалась, она особенно не вникала даже, говорит, хочешь — продавай, мне, мол, по фигу. Я и продала, а чего церемониться? Живопись меня не очень волнует. Вот, так что деньги у меня есть.
— Кроме того, вы — наследница всех денег, оставшихся после смерти старшей сестры? — спросил адвокат.
— Единственная, — тихо уточнила Яна.
— Ага. А сестра ваша была очень богата. Так что труд адвоката будет щедро оплачен?
— Обязательно быть таким циничным?
— Иногда это помогает в работе, — честно признался Гордеев. — Но извините, если что не так. Так к чему вы мне все это говорите?
— Чтобы вы не сомневались в моей кредитоспособности.
— Вы меня с самого начала в ней заверили, — напомнил Гордеев.
— Ну да, конечно, — немного смутилась она. — Я не то хотела сказать. Видите ли, я не все картины продала из папиной коллекции. Там осталась одна, которую никто не захотел брать, и она у меня здесь, в Москве. Я просто подумала, раз вы так относитесь к этой живописи, может, вы захотите взять ее в качестве гонорара? Деньги деньгами, но картина — это все-таки хорошее вложение капитала, согласитесь, если она вообще чего-то стоит, то со временем в цене обыкновенно растет, верно? А деньги, напротив, часто девальвируются.
— Какая вы грамотная барышня.
— Снова иронизируете?
— Ничего подобного. Я, конечно, не против держать у себя дома хорошую живопись, но тут весь вопрос в художнике. Да и кстати, если это, как вы говорите, русский авангард начала века, то как же вы вообще перетащили картину через границу? По-моему, ни одна страна такого не позволит.
Маевская хихикнула:
— Вы не поверите, Юрий Петрович. Я просто ехала поездом и положила ее в свою дорожную сумку. Ее никто не досмотрел. Я же не знала, что вывожу национальное достояние. Это мне потом уже здесь, в Москве, знакомые объяснили. Я так смеялась.
— Хм... Вы знаете, я что-то действительно не очень верю.
— И напрасно! Вы пересекали когда-нибудь на поезде российско-украинскую границу?
—Довольно давно.
— Вот видите. Вы же не знаете, как там все происходит. Таможенники заходят, спрашивают: оружие, наркотики есть? Я говорю: нет, и они идут дальше. И все!
— Так что за картина-то?
— Какой-то Шагов... нет, Шагуль или...
— Уж не хотите ли вы сказать, Шагал? — заволновался Гордеев.
—Да, кажется, так. А вы что-то про него слышали?
— С ума сойти. Вы меня не разыгрываете? Вы действительно не знаете, кто такой Шагал?
— Ну художник же!
— Это один из самых знаменитых художников не просто русских, а вообще двадцатого века.
— Ну вот видите, как замечательно!
— Что замечательно?
— Что у вас будет картина художника, которого вы так чтите. Я очень рада.
— Подождите, подождите, — запротестовал адвокат. — Я еще не сказал, что я согласен, я...
Она молча и терпеливо ждала, что он скажет.
Гордеев почувствовал, что у него как-то неприлично открылся рот, и быстренько подтянул нижнюю челюсть в исходную позицию.
— Допустим, вы мне ее отдадите, но ведь случись что, как я докажу, что владею ею по праву.
— Ну, это-то не сложно. Сделаем дарственную, и все дела. Ведь ни в каких музейных каталогах она не значится, она висела у нас дома, сколько я себя помню.
— Хм... А что там нарисовано? — Гордеев почти сдался.
— Трудно сказать, я же говорю, авангард какой-то непонятный. Там синие и красные цвета, она вообще такая яркая. Не то натюрморт, не то какие-то лошади, это уж кому что мерещится.