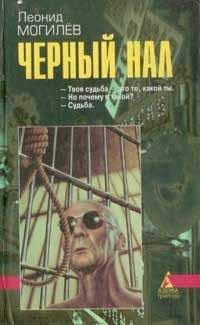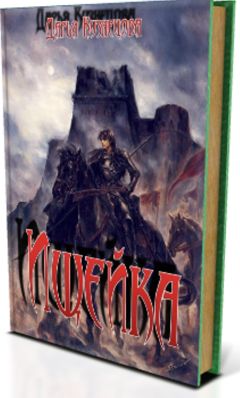Утром сказал измученной им хозяйке, что выйдет прогуляться и будет к обеду. Обед обещал быть сказочным. Но мечта о подвале, где кружки запотелые и какая-нибудь мойва, жирная, с икрой. Там, в бункере, пришлось посидеть на тушенке и хлебе. Теперь вид любой консервной банки вызывал в нем отвращение. А пиво — это жизнь, это солнце, это утоление жажды. Он пива-то по совести давным-давно не пил. Не хотелось ему раньше пива.
Бар был на месте. Мойвы не оказалось. Нашлись дорогие наборы с осетриной, для людей попроще — со скумбрией. Зверев попросил леща и вареных яиц. Принесли отличного, граммов на восемьсот, с каплей жира на надрезе. Он выпил первую кружку залпом. Вторую пригубил, вырезал из леща изрядный фрагмент из самой середины. Когда допил третью кружку, захотелось человеческого общения, и потому пересел за столик, где спорили о гуманоидах.
Итак…
— Кожа серая, вместо носа пипка, ростом в метр, рта нет, так, дырочка, на руках четыре пальца, между ними перепонки.
— Кто это? Кто это?
— Пилоты. Из аппарата. Могут сжечь, могут парализовать. Прилетели с планеты у звезды Зета-один 1 Сетки.
— А говорили, с Сириуса.
— Кто говорил?
— Один мужик. Читал то ли в «Журналисте», то ли в «Коммунисте».
— Вот. Там надежно было написано. Без балды. Коммунисты до уровня бреда не опускались. А вот когда все стало у них рушиться, достоверная информация и пошла. Про тайную доктрину Молотова, конечно, чушь, а про аномалии много достоверного просочилось. Так что там?
— Какие-то нигеры в Африке все про них помнят. Умные такие. Знают теорию Эйнштейна. А сами голые. Червей жрут.
— А, догоны.
— Давай про догонов. Что там у них? — обрадовался живым собеседникам Зверев.
— Да это долго. Я вот про других гуманоидов читал. Они баб ловят — и на тарелку. Ну и изучают там.
— Чего они у наших баб изучают?
— Ну, как устроены.
— Не, без понтов. Бэтти Хилл. Поймали с мужиком и засунули спицу в пупок. Она кричать. Тогда один из тарелки ей глаза закрыл чем-то и все. В отключке. Очнулась в Кливленде.
— Лешичка не позволите, сударь?
— Отчего же не позволить.
Зверев вышел в туалет, потом долго плескал в лицо холодной водой, вытерся платком, сунутым Варварой утром ему в правый боковой карман. Посмотрев на себя в зеркало, он увидел на лице своем с провалившимися глазами, почерневшем и потустороннем, признаки жизни. А потому решил выпить еще одну кружку и погрызть лещика.
— Ну и что там в Детройте? — продолжался спокойный ненавязчивый диспут о иных мирах.
— Один фермер не успевал с пахотой.
— Вот. Будет успевать.
— А у нас уже и не пашет никто. Так что если они там в Америке урожайность снизят, нам конец.
— Ну.
— Баранки гну. По ночам пахал на маленьком тракторе, чувствовал беспокойство. Будто все хорошо, но что-то его угнетало. И вот под утро трактор вдруг остановился.
— А может, соляр кончился?
— С чего ты такой умный? Давай, мужик, задвигай.
— Я те чё, ухи затыкаю?
— Дайте ему по уху и выведите.
— Все. Молчу, молчу, молчу…
— И вот под утро трактор встал. Стоун вышел посмотреть, что там с движком. И тут сначала один, потом другой. Слева и справа. Говорят: «Пошли».
— А на каком языке?
— На английском. Только с акцентом.
— А я слышал, они телепаты все.
— Мало ли что ты там слышал…
— Ведут его в тарелку. А там карта такая. Все миры и вселенные. Они пальцем ткнули, говорят: «Это что?» Он молчит, щурится. Они опять: «Отвечай, Стоун, что это? Ага, не знаешь. А это — Земля. А вот это маленькое и далеко — наша планета…»
Более Зверев такого слушать не мог. Он попрощался со своими товарищами по постижению инопланетного разума и вышел на Среднемосковскую. Теплый день немного после полудня. В желудке — пиво и рыба. Он вышел к четвертому универмагу, хотел было засесть в пельменной, но вспомнил, что его ждет обед на Чижовке, и пошел себе по бывшему проспекту Революции. Посидел у фонтана, посмотрел вниз — на берега и облака. Пора было возвращаться к Варваре Львовне, для чего идеальным образом подходило такси.
РассказчикВ университете Зверев учился хорошо. Меня интересовало, однако, каким он был в быту. Пил ли; если пил, то сильно или нет, и что предпочитал. Любые, самые, казалось бы, не имеющие отношения к делу мелочи были мне интересны. Когда камушки причудливым образом рассыпаются на столе и гадалка силится постичь в миг краткий и решающий их расположение, один-единственный, неправильной формы окатыш гранитный может переменить всю картину.
Друг его университетский, душеприказчик и собутыльник, завелся с полуоборота, и причудливая нить повествования стала разматываться.
— Звали парня Зегой. Естественно, он имел вполне приличное и общепринятое имя, но весь курс звал его так. И однажды он притащил откуда-то в общежитие легкий водолазный костюм, списанный, очевидно, с какой-то спасалки по причине материального и морального износа. Такое приобретение они со Зверевым должны были непременно обмыть. Юрий Иванович частенько оттягивался в общаге и на этот раз стал участником праздничного обеда. Костюм предполагалось использовать для ловли рыбы в любых погодных условиях, до чего Зега был большим охотником.
Когда же обед прошел и ужин и на землю и воды упала летняя ночь, а трагическая музыка родного очага оставалась так далеко, что была еле слышна, они решили заглянуть на ночь глядя к еще одному весьма интересному персонажу — Самураю. Его звали так за пристрастие к творчеству тогда еще малоизвестного японского писателя Кондзабуро Оэ, и как не испытывать ему этого пристрастия? Самурай учился на филфаке. Специальность — Япония. Но Самурай, войдя в образ, несколько там задержался. В тот вечер он совершал, например, чайную церемонию. Расставили еще чашек, сели на коврик в одних носках. Потом стали рассматривать Зегино приобретение. Тот влез в костюм, стал весь резиновым, а лицо его, если рассматривать его через стекло маски, невыразимо изменилось. Он стал похож на диверсанта, выбравшегося на советский берег и каким-то чудом пробравшегося в академическую квартиру, где поведением Самурая давно не были довольны.
В тот поздний вечер, впрочем, Самурай был дома один. Зверев отправился во чрево квартиры и вернулся с бутылкой «Столичной».
«Теперь пойдет у меня жизнь, — мечтал Зега, — рыбу буду бить».
«Тебе еще много орудий нужно. Ружье, подсумки, часы подводные».
«Это дело наживное. А будет рыба, будем суси делать».
«Что делать?» — уточнил Зега, отмеривая рюмки.
«Такое японское блюдо из рыбы. Потом расскажу».
«Рыбу надо вялить. Чтобы зимой, с пивом».
«А суси, по-твоему, с пивом нельзя?»
«Суси — это суси».
«А на каком слоге ударение?»
«Не важно».
Потом друзья вышли в город, добрались до ресторана «Ветла» и, сломив недолгое сопротивление вышибалы, вошли в зал. Денег было не много, и следовало распорядиться наличностью с толком.
— А кстати: я уже забыл, что можно было тогда купить, скажем, на пятерочку.
— На пятерочку можно было гудеть весь вечер в хорошей компании. Тогда они заказали примерно следующее: сто пятьдесят граммов ликера по рубль тридцать шесть сто грамм, три стакана портвейна по сорок шесть копеек, три бутылки пива и осталось еще на легкую, непринужденную закуску.
— А откуда вы это знаете?
— Я довольно часто посиживал с героем вашего будущего очерка по злачным местам и знал его пристрастия.
— Так он, значит, был алкашом?
— Ну, не скажите. Пил-то он пил, да дело разумел. Его потом и из милиции зачищали за моральный облик.
— Да что вы говорите?
— Да. А потом вернули за необыкновенные свойства головы.
— За умственные способности.
— А они разве не в голове?
— Ну, по всей видимости. Вы-то кем сегодня работаете? Какая у вас планида?
— Я в фирме служу.
— В какой?
— Сказано вам, в фирме.
— По юридической части?
— Я работаю в фирме. И вообще, хотите про Юрку говорить, слушайте. А нет, так я пошел.
— Хорошо.
— …Посидев так минут сорок, единомышленники оказались на улице, причем Зега был совершенно пьян. И когда ему захотелось вновь примерить водолазный костюм, а он с ним не расставался, держал в сумке, то с примеркой проблем не образовалось. И дальше он так и пошел. В резине.
Самурай, будучи человеком осторожным и не совсем пьяным, увлек Зегу с магистрали на какой-то пустырь. В трезвяк им было рановато. Потом они проследовали через какие-то дыры в заборах и вдруг поняли, что находятся возле дома, в котором проживал заведующий кафедрой истории Анатолий Васильевич Греф. Друзья доподлинно знали, что он сейчас печален. В доме Грефа проживали сейчас четыре женщины: законная супруга и три его дочери, причем одна от первого брака. По необъяснимой прихоти междувременья дочерей звали Вирджиния, Барбара и Сюзанна.