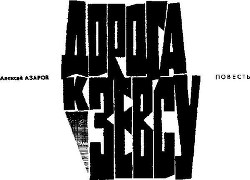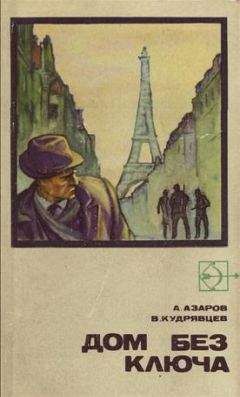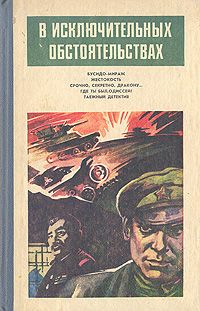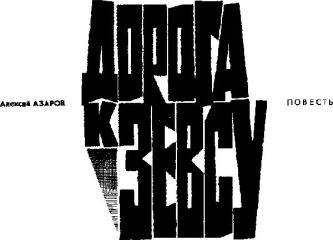— Ты говоришь, вы ездили в Галле, сынок? А зачем?
— Я так попросил. Соврал, что у меня там тетка, а когда приехали, сказал, что передумал, слишком, дескать, поздно, и попросил отвезти в Берлин.
— И он тебя не выбросил по дороге, этакого нахала?
— Вот-вот… Это-то и странно, не так ли, господин советник? Я и сам тут все смекаю, но не очень, чтобы догадаться, как оно есть… Я ведь ему и не сказал ничего особенного, а он ко мне, как к младшему брату. Знаете, как он заявил, все эсэсовцы — братья, и я тебе помогу. Это в смысле — получить пенсию. В первый раз вижу, чтобы генерал и унтер-офицер так разговаривали…
Цоллер ногтем мизинца скребет лоб.
— Постой, сынок. Вернись к началу. Ты вошел, и горничная сказала, чтобы ты ждал. Где?
— В передней. Я же говорил.
— Если будет надо, сто раз повторишь! Продолжай.
Я обидчиво подбираю губы. И что я такого сделал, чтобы со мной разговаривали тоном приказа. Франц Леман знает свой долг и исполняет его не хуже других.
— Ну! — поторапливает Цоллер.
— А что — ну? — говорю я. — Сидел в передней, и все. А потом меня позвали. Здоровенный такой парень по имени Руди.
— Что ты сказал бригаденфюреру?
— В том-то и дело, что ничего особенного. Сказал, что помню его по Франции, когда стоял в охране. Потом показал руку и объяснил, что не могу получить пенсию, потому что каких-то бумаг нет в архиве. Он спросил: все? Я посмотрел на него — вот так, прямо — и говорю, что ни за что бы не посмел обратиться, если б не слышал от своего товарища, от Фогеля то есть, что бригаденфюрер очень сердечный и отзывчивый. Вот тут и началось…
— Что? Выкладывай, сынок! Что началось?
— Удивительное, господин советник. Он сказал мне: садись — и стал расспрашивать, где и когда я служил во Франции и долго ли дружил с Фогелем. Потом пообещал помочь выправить бумаги и предложил отвезти, куда мне надо, если я спешу. Я соврал про Галле, и бригаденфюрер приказал Руди приготовить машину. Я все думал, он здорово рассерчает, когда я скажу, что тетка спит, но он и не подумал сердиться. Сказал, что это ничего, и повез меня в Берлин.
— О чем вы говорили? Он спрашивал тебя еще о чем-нибудь? Не торопись, сынок, получше припомни!
Собственный палец, все еще болтающийся перед носом, начинает раздражать меня, и я убираю его.
— Я заснул, господин советник. Так уж вышло. Очень устал и заснул. А когда мы приехали, бригаденфюрер сказал, чтобы я завтра явился к нему. Он, дескать, все проверит и сделает, как надо.
“Завтра”. По крайней мере сутки Одиссей будет в безопасности. Цоллер ничего не предпримет до новой встречи Лемана с Варбургом. Я слушаю себя как бы со стороны и пока не вижу промахов. Вряд ли у советника есть основания для недовольства. Леман, как он и рассчитывал, сунулся в Бернбург, но в последнюю минуту струсил и представил Варбургу дело так, словно хлопочет о пособии. Помянутое как бы между прочим имя Фогеля оказалось лакмусовой бумажкой — бригаденфюрер дал реакцию; немного не ту, которую предвидел Цоллер, но все же характерную, позволяющую делать вывод, что Варбург опасается всего, что связано с разжалованным штурмфюрером. Стал бы он в противном случае возиться с Леманом, предлагать помощь, ехать в Галле и Берлин и, наконец, приглашать к себе, обещая все уладить?
— Господин советник не сердится?
— Что? Извини, сынок, я немного задумался. Нет, не сержусь. Ты, конечно, не должен был ехать туда, не сказав мне, но раз все так сложилось, то будем считать, что ты победил. А победителей не судят, согласен, сынок?
— Еще бы! — говорю я горячо. — Господину советнику…
— Ладно, сынок… Вот что — как, по-твоему, Фогель не врал? ^ Я решительно мотаю головой.
— Чистая правда! Позволю заметить: я думаю, что бригаденфюрер и точно столкнулся с теми… Иначе чего ради он нянчился бы со мной?
Лоб Цоллера разглаживается; возле глаз появляются тонкие морщинки. Он улыбается, и улыбка эта, насколько я могу понять, не предвещает Варбургу ничего хорошего.
— Все правильно, сынок. Не думай, что я сержусь. Только давай договоримся: впредь ни шагу без моего ведома. Я не шучу!
— Куда как понятно!
— Вот и славно. Ты согрелся?
— Да, — бормочу я, чувствуя, что шнапс сделал свое дело.
Мне тепло и мягко на пружинных подушках БМВ; мысли сосредоточиваются только на этом ощущении, отказываясь давать местечко Варбургу, Цоллеру, будущему. Главное, все обошлось. На этот раз обошлось.
— Куда отвезти тебя, сынок?
— Все равно…
— Ладно, — говорит Цоллер и грузно ворочается на сиденье; огромные ручищи его впиваются в баранку. — Поедем, перекусим в одном местечке. Я угощаю… Ты любишь сосиски, сынок?
Как это писала Комати? “Има ва таре”?
11
Взмах налево — нет дивизии; взмах направо — еще одна. Франц Леман сражается с врагом при помощи метлы, насаженной на длиннющую палку. Каждая пылинка — солдат, а вместе имя им легион. Со вчерашнего вечера я, хлопотами и заботами фрейлейн Анны, не только ночной сторож, но и уборщик, высокооплачиваемый специалист по борьбе с грязью. Десять марок в неделю, шутка ли! “Тридцать пять плюс десять равняется сорока пяти, — размышляю я, дотягиваясь метлой до щели под столом старшего бухгалтера и выгребая из нее кучу мусора. — Оклад меньше, чем у гаулейтера Берлина, но жить можно. Ай да Цоллер!”
Покончив с уборкой, я выключаю свет и поднимаю маскировочные шторы. Сизый рассвет клубится за окном, предвещая близкую оттепель. Я рисую на запотевшем стекле человечка со скорбными губами фон Арвида и слежу, как капли, собираясь на границах линий, сползают вниз, размывая мое творение. Толстая сигара, одетая в целлофан, приятно шелестит в кармане халата, напоминая о щедрости господина советника Цоллера. Вчера он изображал Армию спасения, а я бедного сироту, и все было хорошо, как в святочном рассказе.
“Местечко” господина советника оказалось не чем иным, как “локалем” на Александерплац, известной каждому берлинцу. Пиво наливали, как в добрые старые времена, в фаянсовые кружки с оловянными крышками. Соленые сухарики подавались бесплатно. Цоллер похлопал официантку по заду, шепнул ей что-то, и нам принесли еще и кровяной колбасы, не значившейся в меню.
— Ты ешь, сынок, — сказал Цоллер и подвинул мне тарелку. — А я пока позвоню.
Он отсутствовал минут десять, не меньше, а когда вернулся, лицо его было довольным. На тарелке оставалась целая колбаска и половина; советник медленно отрезал кусок, подцепил на вилку.
— Скучаешь, сынок? В твои годы я был весел и прыгал воробьем. И мог съесть сколько угодно колбасы.
Я сидел, осоловевший от еды, и не понимал, к чему он клонит. Во всяком случае, не было похоже, чтобы расклад шел не в мою пользу.
— Почему ты не намекнул мне о пенсии? — сказал Цоллер. — Не веришь ты мне, сынок. А зря. Я ведь тоже могу немало, не последняя спица в колеснице.
— Да нет, — сказал я. — Спасибо, господин советник. Стоит ли утруждаться?
Цоллер проглотил кусок, облизал испачканные соусом и салом губы.
— Прямо не знаю, как и быть. Такой ты гордый, сынок, что страшно подступиться. А я — то, старый пень, думал навязать тебе лишний десяток марок в неделю, пока суд да дело. Они тебе не помешают, не правда ли?
— Еще бы!
— Тогда постарайся попасть в свою контору не позже пяти. Думаю, управляющий предложит тебе кое-что, так ты не отказывайся… Ты ешь, ешь. Уплетай колбасу и слушай папашу Цоллера. Он тебе желает добра, и если ты не станешь брыкаться, то сделаешь карьеру… Ну вот, а теперь глоток пива, и будет в самый раз… Завтра ты встретишься с Варбургом и будешь держать ушки на макушке. А потом, если и дальше пойдет, как надо, папаша Цоллер прихватит тебя на Принц-Альбрехтштрассе и кое-кому представит. Да не делай ты круглых глаз! Пусть боятся те, у кого совесть не чиста; нас с тобой там встретят с распростертыми объятиями. Будь спокоен, я знаю, что говорю!