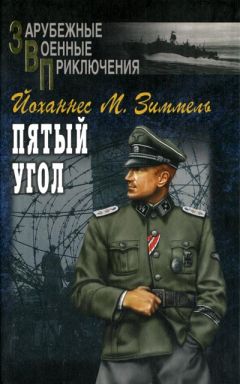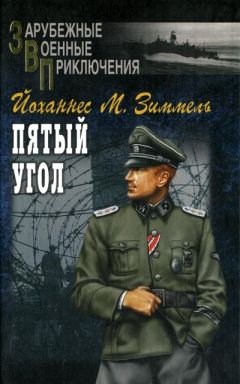— О чем и речь, — сказал Вестен. — Каждый надеется, что его покровители получат новое оружие первыми. А кто именно устраивает теракты, кто убивает, в конечном итоге никакой роли не играет. Но я-то думаю, что в нашей стране есть все-таки люди, которые к этой ситуации относятся непримиримо — по крайней мере, к террору и убийствам.
— Есть такие, — сказал его друг. — И я из их числа.
— Думаю, будет логично, если мы попристальнее рассмотрим специальные группы, которые существуют в большинстве стран. Есть они и у нас — или я ошибаюсь?
— Ты на верном пути, — согласился его друг. — Но если этот факт, который известен тебе и доктору Барски, а также фрау Десмонд, которую ты вынужден был посвятить, знает или сможет доказать хоть один человек на свете, вы практически уже мертвецы. Мы, ФРГ то есть, скорее сдохнем, чем согласимся, что подобные группы в нашей стране существуют.
— Это я уже однажды слышал, — сказал Вестен. — От криминальоберрата Сондерсена. Я спросил его, есть ли у нас специальные подразделения или группы особого назначения. Нет, ответил он. Ни о чем подобном он не знает. Тогда я спросил, подтвердил бы он их существование, если бы они были? Он сказал, что нет, не подтвердил бы.
— Сондерсен в курсе дела. И вопрос не в том, как эти группы называются. Но, вне всякого сомнения, существует какая-то инстанция, которая мешает ему вести расследование, из-за чего он переживает. Ну, теперь в Висбадене его просветят — так, как я просветил тебя. ФКВ вынуждено было признать, что все усилия Сондерсена по раскрытию преступления в Гамбурге тщетны и просто-напросто не могут увенчаться успехом. Можем ли мы, имеем ли мы право обвинить американскую или советскую сторону в подстрекательстве к убийству? ФКВ известно об активности определенной группы, которая причиняет столько неприятностей Сондерсену, истинному фанатику справедливости. Она и впредь будет причинять ему неприятности, хотя ему и объяснят, в чем задача этой группы.
— В чем же она?
Его приятель криво усмехнулся.
— Опять ухмыляешься? Что тут смешного? — спросил Вестен.
— Видит Бог, — сказал его друг, — члены этой группы получили совершенно немыслимое по логике поручение, поручение просто бредовое, но в соответствии с нынешним положением дел единственно возможное и логичное.
— А именно?
— А именно? Они должны сделать все, чтобы помешать Советам получить вирусное оружие первыми, и позаботиться о том, чтобы первыми его получили американцы. Они любыми способами, в том числе и нелегальными, будут стараться не допустить новых человеческих жертв, а кроме того, они получили указание всеми средствами препятствовать распространению паники. Итак, они должны помогать американцам, мешать Советам, спасать людей — и исключать возникновение паники.
— Каким образом?
— Это их дело. Я бы не хотел оказаться на их месте. Никого в эту группу силком не тащат. Все они добровольцы. Без исключения. И все без исключения профессионалы. Лучшие из лучших.
— Не понимаю, почему они согласились участвовать в этом деле? — спросил Вестен. — Из идеализма? Вряд ли. Из веры в справедливость, в права человека, в свободу личности? Тоже нет.
— Воистину так, — подтвердил его друг. — Все эти понятия для них и гроша ломаного не стоят. Они верят в нечто иное. Прежде чем вступить в группу, один из них сказал мне: «Все они преступники — все крупнейшие политики мира и их проклятые правительственные системы. Все эти свиньи, для которых война — прекрасный случай набить мошну потуже. Они нуждаются в нас, мы таскаем для них каштаны из огня, пока они выступают с пламенными речами о мире, свободе и справедливости. Плевать им на человечество с высокой колокольни. На свете нет ни одной системы власти, которая действительно заботится о человеке!» Неплохо сказано, правда?
— Очень даже неплохо.
— Но кое во что они все-таки верят. Кое-что их все-таки интересует. За это они и рискуют жизнью.
— За деньги, — сказал Вестен.
— За большие деньги, — поправил его приятель. — За огромные.
— Вот, значит, как обстоят дела, — закончил первую часть своего рассказа Вестен в кабинете Сондерсена. Помолчав некоторое время, он заговорил вновь: — Необходимо напомнить, как и почему наша страна оказалась в таком положении. Я обвиняю себя, я виню свое поколение. Многие боролись против нацистов. И все-таки нас было мало. Не столько, сколько требовалось. Все, что делалось от нашего имени и с нашего молчаливого согласия, привело к несправедливости и страданиям, к горю миллионов людей, и последствия этого мы ощущаем до сих пор, ими и объясняется ложное положение нашей страны. Каждый из нас чувствует это на собственной шкуре. И вот что меня мучает: в будущем сегодняшнее поколение еще не раз поплатится за то, что сделали предыдущие. Если найдется хотя бы один человек, который считает, будто одни люди имеют право ни с того ни с сего нападать на других, имеют право уничтожать шесть миллионов евреев и сотни тысяч своих земляков, имеют право установить в мире такой порядок, при котором за шесть лет войны погибают шестьдесят миллионов человек, причем одних русских — двадцать миллионов, имеют право превращать огромное пространство в «выжженную землю», а потом делать вид, будто ничего не случилось — как такого человека назвать? — Вестен перевел дыхание. — Я не верующий, нет. Но я верю в справедливость — высшую справедливость. Мы еще получим счет за все содеянное при нацизме, я не сомневаюсь. Сейчас мы оплачиваем лишь малую толику.
— Мы стояли с вами однажды у небольшой церквушки, совсем рядом с моим издательством. Помните? — обратилась к Сондерсену Норма.
— Отлично помню, фрау Десмонд. Вы спросили меня, какая тоска меня гложет.
— А вы ответили, что не можете ничего толком объяснить.
— Я действительно не мог. Вы сами видите — после всего того, что услышали от господина Вестена.
— После того как вы побывали в Висбадене и узнали практически то же самое, что господин Вестен в Бонне, вас по-прежнему что-то гнетет? — спросила Норма.
— Да, гнетет. Конечно. Но вот уже несколько минут вовсе не с той ужасной силой, как прежде.
— Несколько минут?
— После того как господин Вестен заговорил о нашей общей вине и о том, что до высшей справедливости так же далеко, как до Луны, — сказал Сондерсен, — у меня словно глаза открылись. Я потрясен. Фашизма я не помню. Но я всегда считал неубедительными слова канцлера о «благодати позднего рождения». Мне вспомнилась библейская притча о голубях: отцы ели их, а сыновья зубы обломали. Конечно, мы, родившиеся позже, не виноваты ни в нравственном, ни в правовом смысле. Но на нас особая ответственность, доставшаяся нам по вине отцов. Народ, без сопротивления терпевший массовые убийства и дважды за полвека развязывавший войны, должен нести свой крест. Наступили новые времена, мы стремимся к примирению. Но Освенцим из истории не вычеркнешь. Мы, наши дети и внуки ответственны за то, чтобы подобные ужасы никогда не повторялись. Мы никогда не должны забывать о нашей вине, никогда. За то, что у нас появились молодые нацисты, за то, что у нас и у наших братьев на Востоке понатыкали ракетных установок, за то, что общее политическое развитие с сорок пятого года пошло столь постыдным путем, — за все это мы тоже должны быть «благодарны» фюреру. Вы даже не догадываетесь, господин Вестен, как сильно повлияли на меня ваши слова о долгах прошлого.
— Я был уверен, что вы меня поймете.
— Теперь мне ясно, — сказал Сондерсен, — почему кто-то исподволь ограничивал мои возможности раскрыть преступление и разоблачить убийц. Другого не дано. Не знаю, сможем ли мы избежать худшего. Все, что в наших силах, — это по возможности уменьшить вероятность будущей катастрофы. Я не устану бороться за справедливость. Господин Вестен прекрасно объяснил, что такое высшая справедливость и в чем ее самоценность. Спасибо вам, господин Вестен!
— Да будет вам! — сказал Вестен.
— Нет, благодарность моя безгранична, — возразил Сондерсен. — Потому что теперь я могу делать свое дело, не испытывая больше чувства ярости, гнева — и полнейшего бессилия. Надо на все смотреть открытыми глазами. Теперь я понял это. И мне немного легче.