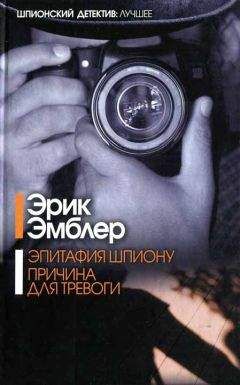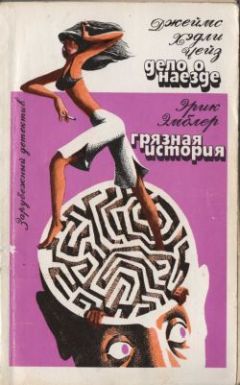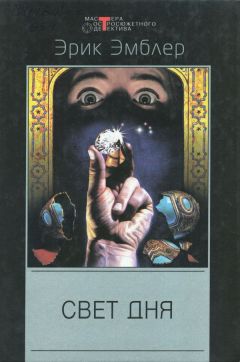— Совершенно верно.
— К счастью, нашелся еще один, более надежный. Возможность проинспектировать колесо была предоставлена математику по фамилии Гравезанд. Он не нашел никаких признаков обмана, но, к сожалению, Бесслер не позволил ему осмотреть внутренность колеса. Гравезанд, похоже, очень настаивал на этом, поскольку Бесслера его любопытство чрезвычайно рассердило. Вне всякого сомнения, он подозревал, что у Гравезанда не только научный интерес. Как бы то ни было, изобретатель уничтожил колесо. Обломки, обнаруженные в замке ландграфа, нисколько не помогли разрешению загадки.
Я стал размышлять над этим случаем. Либо Бесслер был выдающимся мошенником, либо имело место чудо. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, я пришел к выводу, что истинно первое утверждение. Однако этот случай не выходил у меня из головы. Вы должны помнить, что я искал доказательства невероятного. Меня интересовало все необычное. Затем мое внимание привлекло еще одно явление. Мелкие частицы, взвешенные в жидкости, температура которой поддерживается постоянной, находятся в постоянном движении. Этот факт широко известен, но в прошлом его использовали для подтверждения законов термодинамики, утверждавших, что вечное движение невозможно. Считалось, что данные законы применимы ко всем исследуемым явлениям. Но мне показалось, что в этой броне ортодоксальности есть брешь, которую я могу использовать в своих целях. Глубина моей шутки зависела от обстоятельного изложения гипотезы. Я засел за работу.
Он снова посмотрел мне в глаза.
— Я часто думал, синьор Маурер, что математика очень похожа на музыку. У музыкальной идеи столько общего — с эстетической точки зрения — с математической теорией, что меня порой тянет написать симфонию в терминах математической аннотации. Простой процесс интегрирования, например, по сути своей сходен с оркестровкой. Понимаете, господин Маурер?
— Боюсь, — ответил я, — вычисления для меня всегда имели конкретное и практическое применение.
— Ах да, конечно. Вы инженер. А для меня в математике есть цвет и движение. Я всегда увлекался схемой, которую сам создавал. То же самое произошло с доказательством, над которым я бился. Я забыл о шутке. Мои мысли были направлены на доказательство невозможного. Я работал над этим почти восемнадцать месяцев. И в конце концов достиг цели.
Он сделал паузу. Потом снова заговорил, веско и неторопливо:
— А потом, синьор Маурер… потом произошло невероятное.
Я ждал.
— Восемнадцать месяцев — большой срок, и мои мысли, наверное, приняли несколько другое направление. Но это не имеет особого значения. Иногда огромная концентрация сил способна создать для разума ложную перспективу. Научный работник должен всегда помнить об этом и проявлять осторожность. Однако, — профессор наклонился ко мне, подчеркивая каждое слово движением рук, — я столкнулся с невероятным. Мне удалось найти логическое обоснование для своей гипотезы. Я доказал возможность вечного движения. А потом обнаружил, что не в силах найти изъян, который должен был существовать в доказательстве.
Он тяжело вздохнул.
— Поначалу я злился на себя — злился и волновался. Сам не знаю почему. Наверняка такая напряженная работа утомила мой мозг. Я отложил свой труд в сторону. Но забыть не мог. Он не давал мне покоя. Ошибка должна существовать. Однажды я сел и начал все с самого начала. Анализировал каждое логическое звено доказательства, каждую деталь. Оно выдержало проверку. Я попробовал еще раз. Дни и ночи напролет я пытался разрушить цепь математической логики. Мое тело обессилело, но разум продолжал работать. Я знал, что никогда еще не мыслил так ясно. Мой ум был острее бритвы. Я проверял все снова и снова.
А однажды вечером откинулся на спинку стула и понял, что никакого изъяна, никакой ошибки нет. Совершенно случайно я натолкнулся на истину. Оказался лицом к лицу с невероятным предположением, что законы термодинамики основаны на гигантском недоразумении, что нерушимый принцип сохранения материи нарушается и что большая часть нашей науки представляет собой карточный домик.
Щеки профессора раскраснелись, глаза горели еще ярче. Он умолк, затем продолжил уже более спокойным тоном:
— Несколько недель я никому ничего не говорил. Теория была настолько грандиозной, что мой разум отказывался ее принять. Потом я вспомнил об эксперименте Майкельсона и Морли, результаты которого вызвали к жизни множество ложных гипотез; в конце концов их удалось опровергнуть только Эйнштейну. Возможно, существуют еще более старые заблуждения, незаметно проникнувшие в основы классической механики? Моя теория предполагала, что так оно и есть. А единственный человек, высказавший подобное предположение до меня, — это Орфиреус, или Иоганн Бесслер.
Профессор облизнул пересохшие губы. На лбу у него выступили капельки пота. Пальцы теребили пояс халата.
— Пугающе абсурдная, эта идея стала огромным испытанием для моего мужества. Тем не менее доказательство существовало. Я решил рассказать обо всем коллеге из университета Рима, блестящему математику и философу. По-моему, теперь он в ссылке на островах. Впрочем, не важно. Я написал ему, попросил приехать и погостить несколько дней у нас дома в Болонье. Он приехал. Поначалу я ничего ему не говорил. Ждал подходящего случая. Мой разум был взбудоражен, но мне хотелось, чтобы коллега исследовал факты спокойно, с научной беспристрастностью. На третий день я завел об этом разговор. Рассказал, каким образом пришел к своим выводам. Описал, чего я хотел добиться и что получилось в результате. И увидел, как у него отвисла челюсть. Я увидел страх. И все понял. Сразу же. Он подумал, что я сошел с ума. Не мудрено. Моя теория непостижима для обычных людей. Она поражает воображение. Потрясает!
Профессор вдруг умолк. Я ждал, чувствуя, как колотится сердце. Последние сомнения исчезли. Теперь я точно знал, что старик безумен.
— Я дал ему свои вычисления и ушел, чтобы он мог спокойно их прочесть. Понимаете, мне не хотелось влиять на его суждения. Было лето, погода стояла теплая, и я ждал в саду возле дома. Там у нас рос виноград, и я сидел под лозой и сквозь листья смотрел на два маленьких белых облака, которые медленно плыли по вечернему небу. Я знал, что потребуется не меньше трех часов, чтобы прочесть мои заметки, даже бегло. Мне хотелось, чтобы коллега прочел их внимательно, но это можно было сделать и позже. Для начала достаточно общего впечатления. Понимаете? А потом, — профессор замялся, — потом я услышал его смех. Отвратительный хохот. Над чем там можно смеяться? В вычислениях нет ничего смешного. Я подумал, что его рассмешила какая-нибудь выходка собаки. А потом я увидел, как он идет ко мне, смеясь и размахивая рукописью. Коллега пробыл в доме не более четверти часа. Я был поражен. Он подошел ко мне, продолжая смеяться. Я спросил его, в чем дело, и он…
Лицо старика исказилось от гнева.
— Он испугался моих выводов. Он боялся за свою репутацию, боялся выглядеть дураком в глазах всего мира. Коллега притворился, что я допустил глупые элементарные ошибки, простительные лишь школьнику. Сделал вид, что это розыгрыш. Даже указал на некоторые расчеты и, смеясь, заметил, что я очень ловко их сфальсифицировал.
Мне следовало улыбнуться и промолчать. Теперь я это понимаю. Я же повел себя глупо. Вспылил и стал обвинять его — вполне справедливо — в зависти и в предательстве совести ученого. В ответ он опустился до оскорбительных намеков. Сказал, что я слишком много работаю. И даже имел наглость заявить моей дочери, что у меня нервный срыв. Я видел, что у него на уме. Он хотел избавиться от меня и присвоить мою работу. Я попросил его уйти. Потом взял свои вычисления и снова проверил их. Я знал, что он лжет, но должен был еще раз в этом удостовериться. В Болонье я задыхался. Мы переселились сюда, в горы, и я вновь сел за работу. Пять лет я проверял и перепроверял и теперь знаю, что мое доказательство безупречно. Скоро я буду готов. Все должно быть идеально, неоспоримо, прежде чем я приму решение опубликовать свой труд. Дочь согласна со мной. Полагаю, вы тоже согласитесь, синьор Маурер.
Теперь взгляд старика сфокусировался на моем подбородке. Зрачки его глаз помутнели, голова слегка — почти незаметно — покачивалась из стороны в сторону.
— Да, профессор, полностью с вами согласен. — Я старался следить за интонациями своего голоса.
Он улыбнулся.
Женщина подошла и встала у него за спиной. Не глядя на нас, она мягко проговорила:
— Тебе пора спать, папа. Ты сегодня многое успел, если ты хочешь поработать завтра, нужно хорошенько отдохнуть.
Старик молча встал и позволил повести себя к двери. Я едва сдержал вздох облегчения.
Потом профессор вдруг повернулся. Глаза его снова сияли, но теперь они были хитро прищурены.