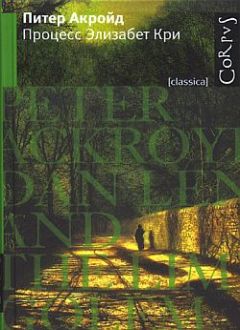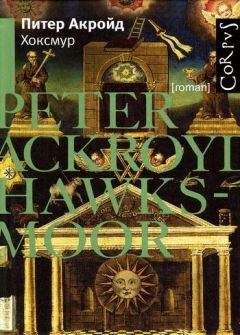Он принял сценическую позу: ноги широко расставлены, носки вывернуты наружу, большие пальцы рук засунуты в карманы жилетки; потом сделал движение, словно подкручивая воображаемый ус.
— Знаешь, Дядюшка, кто я такой? Сержант, набираю в армию. На днях вот стою на перекрестке, гляжу — ты идешь в обычном своем виде. — Дядюшка расправил плечи, а Дэн двинулся на него с такой яростью, словно был восьми футов роста. — Вы хотите записаться в солдаты?
— Нет. Я омнибуса жду.
— О, Господи! О, Господи! Честное слово! Что за жизнь такая! Поневоле вспомнишь один щекотливейший профессиональный казус. На днях подходит ко мне молодецкого вида парень и говорит: «Начальник, я в солдаты гожусь?» Я отвечаю: «Думаю, да, мой мальчик», — и обхожу его кругом. Замечаю, однако, что я вокруг него, а он вокруг меня. Веду его к врачу, а медик и говорит: «Дэн, где ты таких выкапываешь?» Оказалось, у него нет одной руки. Я и не заметил, пока мы с ним ходили вокруг да около. Что за жизнь такая!
Я записывала как могла быстро; кончив, он спрыгнул со сцены, встал на цыпочки и поглядел через мое плечо.
— Умница, — сказал он. — Чисто, как у письмоводителя. Дядюшка, а не споешь ли теперь для Лиззи — просто чтоб видеть, как она успевает?
Тут я поняла, что, помимо прочей работы, должна буду записывать для последующего использования «артикуляцию экспромтом», как Дэн называл сказанное на сцене «с бухты-барахты». Дядюшка в ответ снял цилиндр, перевернул и сел над ним на корточки, как на горшок.
— А ну-ка, — сказал Дэн очень суровым тоном, — без пакостей у меня! Забыл, что здесь девушка? Пой давай или убирайся со сцены. — Я никогда не слышала, чтобы юноша разговаривал так властно; Дядюшка послушно надел цилиндр и, растопырив перед собой руки, принялся петь:
Моей любимой дважды двадцать, она не девочка уже…
— Пишешь, Лиззи?
Я кивнула.
Имеет опыт брачной жизни — пережила двоих мужей…
Я оказалась смекалистой ученицей и нагнала его, когда он начал повторять припев. Дэн был явно обрадован моей сноровкой.
— Фунта в неделю тебе хватит? — спросил он, забрав у меня блокнотик и положив обратно в карман пальто. Таких денег мы с матерью в глаза не видывали, и я просто не знала, что сказать. — Значит, решено. По пятницам будешь получать конверт в кассе у входа.
— Дэн дельный малый, — сказал Дядюшка. — Он не сосунок, нет.
— Может, и вовсе им не был. А как насчет берлоги, Лиззи? — Он увидел, что я не понимаю. — Ты во дворце обитаешь или в яме какой-нибудь?
Теперь, после такой чудесной перемены, я не хотела возвращаться на Болотную. И я не видела большого вреда в том, чтобы разыграть несчастную сиротку.
— У меня родных совсем не осталось, а домохозяин говорит: либо… переселяйся ко мне, либо убирайся вон.
— Вот уж действительно ни стыда ни совести. Я прямо свирепею, когда такое слышу. — Дэн несколько секунд походил взад-вперед по сцене, потом повернулся ко мне. — У нас есть довольно милая комнатка на улице Нью-кат. Почему бы тебе не собраться да и не переехать?
Это была еще одна великолепная возможность, и я не преминула ею воспользоваться:
— А можно?
— Очень даже можно.
— Я за час управлюсь. У меня очень мало вещей.
— Тогда записывай. Нью-кат, дом десять. Спросишь там Остина.
Итак, все было решено, и я поспешила уйти, пока не оказалось, что происходящее — только сон. Уже у самых дверей я услышала, как Дядюшка со сцены кричит стоящему внизу Дэну:
— Может, мы ее в живую картину определим? Ведь Элспет хочет попробовать на проволоке.
Короткое молчание. Потом голос Дэна:
— Рановато, Дядюшка. Рановато. А там поглядим, может, из нее выйдет разговорная артистка. Сразу ведь не скажешь. Но что-то такое в ней есть.
— Ты прав, как всегда.
— Я не прав, я — лев!
Я со всех ног полетела домой через Баттерси-филдс и, оглядев комнату, почувствовала, что прежней жизни как не бывало. Я вынула из-под половицы оставшиеся деньги и аккуратно положила их на грязную материнскую кровать. У стены стоял старый жестяной сундук, на котором мы с матерью сидели, когда вместе шили; внутри там лежали только ошметки ее религии, рваные молитвенники и тому подобное; с превеликим удовольствием я выкинула все это в окно. Потом перебрала и аккуратно сложила в сундук нашу небогатую одежонку. Я вполне могла нести его на плечах, большой тяжести не было, но я хотела во всем выглядеть элегантно, так что я дотащила его только до Сент-Джорджс-филдс, а там за три пенса наняла кеб до Нью-кат.
Номер десять оказался чистеньким домиком новой постройки, и я подкатила к нему и вышла на тротуар как настоящая принцесса. Возница был кусок костлявого мяса в высоком цилиндре, закрывавшем лысину, однако он очень галантно донес мой сундук до двери. У него были маленькие усики, и, давая ему пенни на чай, я не удержалась от насмешки.
— Вас что, жена ударила? — спросила я. — У вас распухло под носом.
Он поднес руку к губам, и его как ветром сдуло.
Только я постучала в дверь, как сразу в коридоре отозвался громкий женский голос:
— Кто там?
— Новая девушка.
— Как зовут?
— Лиззи. Лиззи с Болотной.
— От Дэна?
— Да. От него.
Дверь открылась, и неожиданно я увидела мужчину в поношенном сюртуке и с большим галстуком-бабочкой — точь-в-точь певец-комик в театре на Крейвен-стрит.
— Ну, милая, — сказал он, — ты выглядишь как внучка из дешевой комедии. Пошли.
Я поняла, что ошиблась насчет женского голоса: из-за двери спрашивал он, но таким высоким, таким льющимся сопрано, что не обознаться было невозможно.
— Я подселю тебя к Дорис, это богиня проволоки. Знаешь ее? — Я покачала головой. — Прелестная женщина. Может вращаться хоть на медной монетке. Мы с ней большие друзья. — По красному лицу и дрожащим рукам я сразу поняла, что он пьяница; ему вряд ли было больше сорока, но было ясно, что долголетия ему не видать. — Я бы взял твой сундук, милая, но у меня слабые сосуды. Потому-то я и ушел со сцены. — Пока мы поднимались по лестнице, он болтал со мной так весело и непринужденно, словно мы знали друг друга много лет. — Теперь я эконом. Поняла? Экономка. Эконом. Мне не нравится «домохозяин». От этого слова несет пивом, трактиром. Вся актерская братия называет меня Остин. Просто Остин.
Осмелев, я спросила, что он делал на сцене.
— Сперва был «черномазым», потом «смешной женщиной». От одного моего парика все валились со смеху. Я, милая, всякий раз их до колик доводил. Пришли. Богиня! Ты здесь?
Он в театральной манере приник ухом к двери и несколько секунд подождал.
— И молчанье было им ответом. Что ж, придется идти напролом, как думаешь?
Он еще раз постучал, потом осторожно открыл дверь, за которой я увидела сцену великого беспорядка: по комнате как попало были раскиданы шляпки с перьями и детали корсажа, штанишки на шнурках и скомканные юбки, трико и туфельки.
— Большой аккуратностью не отличается, — сказал Остин. — Артистическая натура. Твоя кровать вон там, милая. В том углу.
Там действительно была вторая кровать, правда, она вся была погребена под одеждой, шляпными коробками и газетными вырезками.
— А я все думал, куда он запропастился, — сказал он, убирая заварочный чайник, покрытый коричневой глазурью, с подушки, которая отныне была моей. — Дорис у нас чаевница.
Он пошел было из комнаты, потом вдруг резко повернулся — впоследствии я поняла, что это манера комиков, — и произнес театральным шепотом:
— Десять шиллингов в неделю. Дэн сказал, их будут вычитать из твоего жалованья. Не возражаешь?
Я кивнула. Я чувствовала, что уже вступила в новую жизнь, и была в таком восторге от превращения, что беспорядок в маленькой комнате мне даже нравился. Когда Остин ушел, я расчистила кровать и выложила свою одежду на стоящие рядом стул и тумбочку. На подоконнике были расставлены горшки с чахлыми цветами; выглянув в окно, я увидела новые железнодорожные пути, идущие поверх складов. Все было так ново, так диковинно, что я воистину ощущала себя взятой из старой жизни и вознесенной в некое благословенное царство свободы. Даже блеск рельсов казался мне неземным сиянием.
— Я знаю, о чем ты думаешь, — произнес женский голос у меня за спиной. — Ты думаешь: где милая моя каморка в Блумсбери.
— Я из Ламбета. С Болотной улицы.
— Не важно. Это слова из песни, милая.
Повернувшись, я увидела, что со мной разговаривает высокая молодая женщина с очень длинными темными волосами. Она меня немножко испугала, потому что была вся в белом.
— Я богиня проволоки, — представилась она. — Ты зови меня Дорис.
Она очень сердечно взяла меня за руку, и мы вместе сели на ее кровать.
— Дэн меня предупредил. Но что это я, ты же умираешь с голоду.