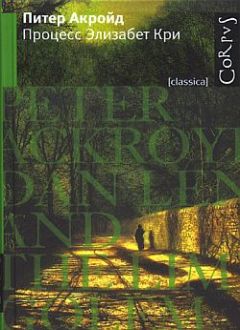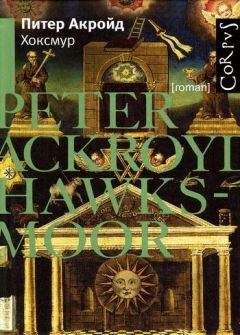— Я знаю, о чем ты думаешь, — произнес женский голос у меня за спиной. — Ты думаешь: где милая моя каморка в Блумсбери.
— Я из Ламбета. С Болотной улицы.
— Не важно. Это слова из песни, милая.
Повернувшись, я увидела, что со мной разговаривает высокая молодая женщина с очень длинными темными волосами. Она меня немножко испугала, потому что была вся в белом.
— Я богиня проволоки, — представилась она. — Ты зови меня Дорис.
Она очень сердечно взяла меня за руку, и мы вместе сели на ее кровать.
— Дэн меня предупредил. Но что это я, ты же умираешь с голоду.
Она подошла к маленькому комоду и вынула из ящика пакет земляных орехов и бутылку шипучего лимонада.
— Подожди минутку, я еще сделаю тосты с маслом.
Мы просидели с ней до раннего вечера; я сказала, что потеряла родителей еще в детстве, что жила на Хановер-сквер и зарабатывала шитьем, что убежала от злой хозяйки и наконец прибилась к женщине, которая шила паруса на Болотной. И вот меня подобрали Дядюшка и Дэн Лино. Разумеется, она поверила этой истории, — кто бы не поверил? — и пока я рассказывала, она гладила мою руку и вздыхала. В одном месте даже всплакнула, но вытерла слезы со словами:
— Не обращай внимания. Вечно я так.
Потом мы очень уютно пили чай, пока в дверь не постучали.
— Пять часов, милашки мои, — раздалось сопрано Остина. — Для увертюры и вступления — все на выход.
— Пусть его, — шепнула мне Дорис. — Он алкоголик. Знаешь, что это такое? — Потом прокричала ему: — Хорошо, мой милый! Скоро мы будем в полной готовности!
Она встала с кровати и начала прямо передо мной раздеваться. Моя мать всегда пряталась от меня во время мытья — настолько она стыдилась своего тела, и теперь я во все глаза смотрела на белую кожу и груди Дорис. У нее была, как говорят в театре, точеная фигурка. Я тоже наскоро помылась, и, увидев простое платье, которое я надела, она ласково накинула на меня свое прекрасное шерстяное пальто, и мы вместе вышли из дома.
Я не знала, когда и как мне надо будет приступать к работе, и послушно, как делала все сегодня, поехала с Дорис в «Вашингтон». От нашего дома это было совсем недалеко, но она помахала рукой и подозвала стоящую в ожидании карету. Вначале я подумала, что она наняла ее заранее, но когда возница, взглянув на нее с козел, дружески обратился к ней: «Как дела, богиня?» — я поняла, что он связан с труппой.
— В Эфф едем, — спросил он, — или в Олд-Мо?
— Сперва в Баттерси, Лайонел, а там по кругу.
— А новенькая откуда взялась?
— Не твое дело, на дорогу знай смотри.
Когда мы забрались в карету, Дорис шепнула мне:
— Лайонел, может, начнет тебя обхаживать, милая. Учти: он не джентльмен в строгом смысле.
Через несколько минут мы остановились у «Вашингтона», и когда мы торопливо входили в боковую дверь, к Дорис вдруг приблизился молодой человек с блокнотом.
— Можно одно словечко? — спросил он. — Я из «Эры».
Он говорил учтиво, и глаза у него были по-болотному бледные. Конечно, я и вообразить не могла, что в будущем он станет моим мужем. Это был Джон Кри.
12 сентября 1880 года.
Прелестный разворот в «Полицейской газете» — хотя грубоватые гравюры несколько принижают славное деяние. Меня обрядили в цилиндр и плащ, придав мне обычный облик театрального сладострастника, — что ж, спасибо, что отдали должное хотя бы классовой принадлежности, ведь только представитель моего сословия мог создать такое изысканное зрелище; однако что им мешало соблюсти большую точность в деталях и композиции? Останки милой Джейн тоже можно было изобразить получше, используя более тонкую игру света и тени; меццо-тинто и гравировка пунктиром весьма действенны в передаче атмосферы без общего цветового прихорашиванья, хотя, по правде говоря, свершение, подобное моему, не требует ничего, кроме бесхитростной силы старомодного резца. Я не слишком удовлетворен и стилем газетных репортажей: от них слишком уж веет готикой, и они прискорбно хромают по части синтаксиса. «Два дня назад дьявол в человеческом обличье совершил самое ужасное, самое отвратительное убийство, какое когда-либо видел наш город…» и так далее. Я знаю, как нравится обывателям превращать свою жизнь в дешевую драму с привкусом балагана, но почему газетчики, все же люди пообразованней, не взяли хоть немного выше?
И тут я вспомнил про ученого еврея. В конце концов, убить шлюху — дело нехитрое, и подлинной, непреходящей славы этим не достигнешь. В любом случае жажда крови в обществе столь сильна, что весь город будет с нетерпением ждать убийства очередной потаскушки. Тут-то и заключена будет красота моего нового хода: он повергнет всех в такое изумление, озарит мой путь таким захватывающим дух совершенством, что каждой следующей смерти будут ждать затаив дыхание. Я стану символом эпохи.
16 сентября 1880 года.
Весьма удачно, что моя дорогая жена Лиззи решила провести вечер в Кларкенуэлле у одного из своих старых театральных приятелей, который, я подозреваю, стал законченным пьяницей. Это дало мне прекрасную возможность сделать публике мой маленький сюрприз. Я достаточно хорошо знаю Скофилд-стрит и прекрасно запомнил дом, куда вошел мой еврей в тот туманный вечер, поэтому я решил побыть с утра в зале музея и дочитать Мэйхью, а затем уж исполнить мой замысел. Он сидел на своем обычном месте и не обратил на меня внимания, но я-то видел его хорошо. Когда он отправился посмотреть каталог, я, словно бы просто разминая ноги, прошел мимо его стола — кто бы мог воспротивиться искушению увидеть последнюю книгу, которую суждено читать на земле этому человеку? Один из томов лежал открытый, и названия не было видно, я разглядел только таблицы каббалистических и иероглифических знаков, бывшие, без сомнения, произведением некоего азиатского ума. Но была там и новая книга, лежавшая поверх каталога магазина Мерчисона, что на Ковни-стрит, — значит, он только что ее купил. Называлась она «Рабочие на заре»; проходя, я не успел ухватить фамилию автора, но в любом случае это был странный выбор для немецкого ученого. Я вернулся на свое место и читал Мэйхью, пока мой знакомец не вышел из читального зала на улицу, где сгущались сумерки.
Идти за ним по пятам не было нужды — я и так знал, куда он направляется, и решил в такой милый вечер прогуляться до реки со своим чудесным врачебным саквояжиком (мало ли, вдруг кому-нибудь на моем пути понадобится хирургическое вмешательство!). Миновав Олдгейт и Тауэр, я повернул на Кэмпион-стрит. Вечер был такой ясный, что видны были церковные башни Ист-Энда, и весь город, казалось, трепетал в предчувствии великой перемены; в этот миг я преисполнился гордости из-за того, что именно мне выпала честь выразить его сокровенную волю. Я приближался к Лаймхаусу как его посланец.
В конце Скофилд-стрит, где эта улица выходит на Коммершиал-роуд, стоял газовый фонарь, но участок ближе к реке был теперь совершенно темен; дом номер семь с коричневой дверью находился как раз на границе света и тени. Тут были заурядные меблированные комнаты, и входную дверь еще не запирали; в одном из окон верхнего этажа светила масляная лампа, и я заключил, что именно там корпит над книгами мой мыслитель. Тихонько, чтобы не помешать его труду, я взошел по лестнице, затем постучал в его дверь троекратным осторожным стуком. Он спросил, кто там.
— Ваш друг.
— Я вас знаю?
— Конечно.
Он чуть приотворил дверь, но я вставил в щель мой саквояж и распахнул дверь настежь.
— Господи, — прошептал он, — что вам нужно?
Это был не мой еврей, это был другой. Но я не выказал никакого удивления и шагнул к нему, протянув вперед левую руку с саквояжем.
— Я пришел свести с вами знакомство, — сказал я. — Я пришел поговорить о смерти и вечной жизни. — Я поднял саквояж повыше. — Секрет находится здесь. — Еврей не двигался, только смотрел, как я запускаю туда руку. — Мы с вами оба наделены чувством священного. Нам открыты тайны.
Я выхватил деревянный молот и, прежде чем он успел крикнуть, ударил его. Удар был сильный, но он не умер сразу; кровь из открытой раны стекала на вытертый ковер, и, встав рядом с ним на колени, я зашептал ему на ухо.
— В вашей Каббале, — сказал я, — любая жизнь считается эманацией Эн-соф.[12] Летите же, летите от этих ошметков материи к свету, из которого вы рождены.
Я снял с него черный капот и хлопчатобумажное белье; на столике подле его кровати стоял таз с водой, и я почтительно обтер его кожу моим собственным носовым платком. Потом вынул нож и принялся за работу. Воистину человеческое тело есть mappamundi[13] с землями и континентами, с волокнистыми реками и мышечными океанами, и в членах мудреца ясно читалась духовная гармония тела, преображенного мыслью и молитвой. Он был еще жив и вздохнул, когда я сделал первый надрез, — то была, я думаю, радость духа, вольно взмывшего из отворенной темницы.