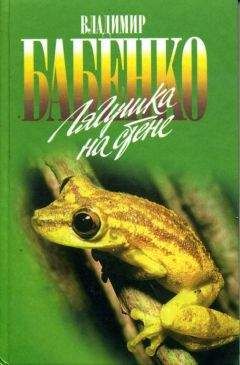Я повернул голову налево. Судя по клубам черного дыма, поднимающимся над лесом, там нам тоже делать было нечего.
— Куда мы сейчас идем, девочка? — спросил я.
— Откуда я знаю, куда мы идем…
— Хорошо, — я подумал, что мне следует принимать во внимание ее состояние, — если мы продолжим идти так, как идем сейчас, куда мы выйдем?
— На Вишнополь выйдем, — подумав, ответила она. — Это километров семнадцать.
— Мать честная, — выдавил Мазурин. — А вокруг все — лес?
— Нет, зачем же лес… поля. Дорогу перейдем…
— Дорога грунтовая? — уточнил я.
— Нет, проселочная… асфальтовая…
Покачав головой, я поправил на плече автомат.
— Что? — увидев мои сомнения, рявкнул Мазурин.
— Если дорога асфальтовая, они на нее уже вышли и сейчас курсируют по ней. Населенные пункты слева и справа дымят, а впереди запруженная немцами дорога. Находясь в окружении, мы угодили еще в одно. Капитан, вам не кажется, что пора провести, как называют ее командиры, а не мы с вами, рекогносцировку?
— У тебя есть родственники и знакомые поблизости?
Она кивнула. Вот черт!
— Где?
— В Гереженивке брат двоюродный…
Я взглянул на Мазурина.
— Капитан, как тебя зовут?
Чекист посмотрел на меня долгим взглядом.
— Евгением. Спасибо, что спросил. Главное, вовремя.
— Самое время. Перед тем как помереть, лучше все-таки знать имена друг друга. Мы идем в Гереженивку.
— Спятил? — вскричал Мазурин. — Там немцы!
— Немцы везде, если ты еще не понял. Но в Гереженивке у нас родственники. — Я наклонился и посмотрел на серое лицо девчонки. — Верно?
Этого оказалось достаточным, чтобы в ней произошли какие-то изменения. Она схватила меня за руку, глаза ее заблестели, а на щеках появился румянец. В одно мгновение. И эти слезы… Теперь все, что с ней будет происходить, она будет проецировать на оставшегося в деревне малыша. Все хорошее — со скорбью о том, что ему плохо в тот момент, когда ей хорошо. А все плохое с уверенностью в том, что ребенку, быть может, хоть чуть-чуть, да лучше… — Брат, Тарас! Он вас спрячет и Митю привезет!.. Пойдемте скорее!..
— Да, привезет, — глядя на капитана, повторил я. — Конечно, привезет… сколько идти до деревни?
— Да вон она, видите, столбы дыма над деревьями распушаются?
Распушаются… столбы дыма… бедная девочка…
* * *
С капитаном мы лежали на краю поля. Погрузившись в начавшую покрываться золотом пшеницу, мы жевали сало, хрустели огурцами и ждали нашу спасительницу. Она должна была пробраться в деревню и взять у брата какую-нибудь одежду, в которой мы меньше всего были бы похожи на офицеров РККА. Появление нас в селе в том виде, в котором мы пребывали сейчас, было бы смешной прелюдией к банальному расстрелу.
— А немцев она не приведет? — как бы невзначай спросил Мазурин, с треском отламывая пол-огурца крепкими зубами.
— Геринга, — подтвердил я.
— Я просто просчитываю ситуацию.
— Приведет немцев, будем, отстреливаясь, уходить. Если нас сдадут в деревне, будем, отстреливаясь, уходить. Какая разница, что сейчас произойдет, если при неудаче в любом случае нам придется, отстреливаясь, уходить? — Привстав на руках, я посмотрел.
Вдоль кромки поля быстрым шагом, почти бегом, торопилась наша знакомая. В руках у нее был какой-то узел. Каждые пять-шесть шагов она оглядывалась.
— Вон она, бежит, — успокоил я Мазурина. — Готовьтесь переодеться в штатское, капитан. Вам подойдут кепка и штиблеты.
— Вы считаете, что кепка будет мне к лицу?
Мы снова были на «вы». Я заметил, что происходило это, когда появлялся мизерный шанс выжить. Как только мы вставали на край пропасти, мы тут же переходили на «ты». Но стоило сделать шаг от края, как между нами снова вырастал заборчик. Маленький такой. По колено. Выкрашенный белой известью. Можно перешагнуть через него, а можно разговаривать и так, не замечая его, но помня о нем.
— Кепка и штиблеты. В них вы будете похожи на настоящего чекиста, внедренного в стан врага. Но немцам-то это откуда знать?
— Мужчины!.. — услышал я. — Товарищи!..
— Нужно показаться, иначе скоро она начнет кричать «товарищи командиры Красной армии», — прокряхтел Мазурин, выглядывая над колосьями. Махнув ей, он промолвил скорее для меня, а не для нее: — Иди сюда, не кричи только, ради бога… — и теперь уже точно — мне: — И как мы войдем в деревню? И куда денем оружие?
Через десять минут, переодетые, мы с Мазуриным заканчивали с похоронами оружия. В старую одежду мы завернули два автомата, десять полных обойм к ним и нож. Уложили узел в импровизированную могилку и засыпали. Я схватил в охапку кучу хвороста и бросил сверху.
— Вот сейчас вы похожи на сельчан, — утвердительно заявила девчонка.
Я посмотрел на капитана и обнаружил, что он разглядывает меня. Да, мы были похожи на сельчан. Если не считать аккуратных стрижек, которые выдавали в нас стильных горожан. На это можно было не обращать внимания, если бы один раз из-за этого я едва не пострадал. Хотя, быть может, именно это нас тогда и выручило…
— Вы одеты, как этапируемый по пятьдесят восьмой, Касардин.
— Знаете, а я ожидал услышать от вас что-то вроде — вы выглядите, Касардин, как Бернс сразу после написания «Был честный фермер мой отец».
— Я и говорю — как по пятьдесят восьмой.
— Мой брат… — робко встряла женщина.
— Что?
— Он просил передать, чтобы вы ни с кем по дороге не разговаривали и чтобы я сразу провела вас через огород к загону. Немцы всю скотину уже вывели и нарисовали на двери крест мелом.
— Зачем? — Разница между моим удивлением и Мазурина заключалась в том лишь, что он спросил, а я смолчал.
— Чтобы для других немцев было видно, что скотины здесь нет…
Капитан усмехнулся. Я поправил соломенную шляпу и сунул руки в короткие широкие штаны. Мазурин был моей комплекции, так что суконные брюки и серая косоворотка на нем выглядели так же комично. При этом он был в кепке, и теперь это его немного нервировало.
Мы прошли до деревни той же дорогой, какой шла из нее девчонка, — по опушке леса. Чем больше становились дома, тем явственнее пахло гарью. Тем сильнее дрожала женщина и бледнел Мазурин. Мы шли к тому, от чего сутки перед этим убегали, — к встрече с фашистами.
— Они подожгли сельсовет и расстреляли председателя… И членов партячейки… — шептала, словно нас могли слышать, она. — Потом еще кого-то… Брат напуган, говорит, пусть прячутся, но если в вас увидят красноармейцев…
Женщина не договорила, но мы и без того знали, что будет, если в нас увидят красноармейцев.
Изба брата нашей путеводительницы была не с краю, поэтому нам пришлось некоторое время отсиживаться в чужом огороде. Я лежал в бурьяне с человеческий рост и думал, где бы прятался, когда бы был, к примеру, апрель. Девчонке бояться было нечего — в том смысле, разумеется, что она за чужую в селе не была. Она могла свободно перемещаться по улицам и через двадцать минут (я видел время на часах Мазурина) вернулась.
— Побежимте! — взволнованно зашептала она. — Немчура освоилась, спокойней стало.
Пригнувшись, мы побежали к дому ее двоюродного брата… В этой одежде я чувствовал себя Костей из «Веселых ребят», а в капитане без труда угадывал шныря из Марьиной Рощи. Только шнырь был крупноват для мелкого жулика, скорее он был похож на переодетого в шныря «ивана». Зайдя во двор, девчонка распахнула изнутри оконце, и мы, с трудом протискиваясь, забрались внутрь.
— Если спросят, кто вы, отвечайте — родственники Степаненки Тараса из Онуфриенки.
— А полегче придумки нет? — съязвил Мазурин.
Она вышла и захлопнула дверь.
Время тянулось так медленно, что массу эту можно было резать бритвой. Вонь и мухи просто убивали. Пришла жара, и я уже задыхался от запаха дерьма и перегноя. Тяжелые, сытые мухи медленно летали и сверкали изумрудными боками, когда на них падал свет из окна. Каждый раз, когда неподалеку от загона слышалась речь или шаги, я чувствовал, как бьется мое сердце — тревожно, меня не слушаясь. Мысль о том, что каждый звук вне этих стен направлен на нас, не давала мне покоя. Те же муки испытывал, видимо, и Мазурин. Я был уверен в этом, потому что о другом думать здесь было нельзя.
Боже, как глупо… Как все глупо…
Первого декабря тридцать четвертого я зашел в Смольный с просьбой отдать мне бабкину квартиру. И только поэтому спустя семь лет я сейчас нахожусь здесь, в загаженном загоне, рядом со мной сотрудник НКВД, любитель опытов с электричеством, а вокруг — немцы…
— Тараса — кого?
— Степаненки.
— А откуда?
— Из Онуфриенки, — терпеливо повторил я.
— Твою мать, забуду же…
— Да кто тебя спросит?
И в то же мгновение во дворе раздались голоса и металлический лязг.