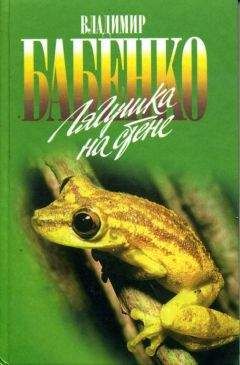— Нам нужно укрыться и переждать несколько дней, — сказал наконец капитан. — Красная армия погонит врага назад, и тогда мы выйдем. А сейчас мы окружены.
Мужик молчал и чесал бороду. Кажется, прием на временное хранение двоих москалей не входил в его планы.
— Чердак — надежное укрытие?
— А что — чердак? — промычал мужик. — Чердак как чердак… что его хвалить…
— Может, сеновал, загон? — продолжал разведку Мазурин.
— Может, и сеновал…
— А может, ты недослышишь? — делая последние жевательные движения, проговорил чекист. — Или недопонимаешь обстановки? Два командира Красной армии, два коммуниста, советских человека просят у тебя помощи. А ты сидишь и чешешь репу.
Я покосился на Мазурина. Из всех розданных им определений ко мне подходило только «советский человек».
— А шо я могу сробить? Немцы придут, забьют всю родню…
— Так, значит, Красную армию ты встречаешь с оружием, а немцев — боишься? — заводился Мазурин, как и я, чувствуя, что нашему ночлегу здесь не очень-то рады.
— Дозвольте нам только переночевать у вас и набраться сил, — вмешался я. — И если есть, покажите мне все лекарства, что имеются в вашем доме. Мой друг не перенесет еще одной ночи в лесу.
— Тятя…
Посмотрев на молодую мать, я заметил слезы в ее глазах. Круглолицая, румяная, она выглядела простушкой. Чиста и малословна, я сразу распознал в ней сноху. Чувствовалась в этой хате атмосфера, когда хозяин всегда суров и серьезен, но немаловажно для него мнение тех, кто живет в его доме. Назвав его «Михайлой», баба проронила что-то насчет того, что «и наш тоже вот так где-то». По-видимому, это решило исход дела.
— А оставайтесь, кто против? — нехотя выдавил мужик. — Лезайте на чердак, жинка щас туды воду закинет.
Пахло прелым сеном и березовыми вениками. Исполняя волю хозяина, мы зарылись в душистый ворох прошедшего лета. Сверху на сено хозяйка набросала тряпок. На случай скорого бегства мне (не Мазурину, которого по понятным причинам мужик невзлюбил сразу) была выдана холщовая сумка. Помимо завернутого в чистую тряпку куска сала в ней находились еще вареные картофелины — штук десять, несколько огурцов и буханка хлеба. Теперь все выглядело привычным и естественным, хотя еще час назад простая горбушка выглядела Сталинской премией. Мазурин, перевязанный мною хозяйскими тряпками, мгновенно уснул. Я держался и размышлял, что делать дальше. Этот ночлег задержит нас на несколько часов. Об укрытии на несколько дней Мазурин говорил впустую, — оставшись, мы бы задержались здесь навсегда. Решение пробиваться к своим никто не отменял, но мы оба чувствовали, что сил нет…
Когда забрезжил рассвет, я приоткрыл глаза. Что-то еще кроме пробивавшихся сквозь прорехи в крыше солнечных лучей встревожило меня. Осторожно пробравшись под сеном к навесу из слег, к самой стене, я прильнул к щели.
Все, что жило во мне ранее надеждой и что придавало сил, умерло в один момент. В деревню входили, ломая ветхие заборы и вспахивая земляные дороги, немецкие танки. Они, судя по скорости, останавливаться здесь не намеревались. А вот моторизованные подразделения немецкой пехоты, состоящие в основном из мотоциклистов, въезжали во дворы и глушили моторы. Немцы спешивались и трусцой разбегались по всем строениям, где были двери.
Мимо избы Михайлы без визга промчался розовый, с испачканным навозом боком поросенок.
— Мазурин!.. — прикрикнул я.
Он уже не спал. Глядя на меня и понимая, в чем дело, он лишь вопросительно кивнул.
— А ничего хорошего, — сказал я, ища под сеном автомат. — Немцы.
Во двор дома, где мы схоронились, въехало сразу два мотоцикла. Михайло — теперь это было видно по двору, был зажиточный мужик. Загон для крупного рогатого скота, для овец, избушка с насестом для кур, совмещенная с овчарней, — все это предстало теперь в дневном свете и выглядело по-кулацки вызывающе. Между тем дом выглядел уныло, и это наводило на мысли, что расчетливый ум мужика заставлял его сначала обустраивать дело, а уже потом — удобства. Здесь было чем поживиться. Соскочив с мотоциклов, немцы первым делом выяснили, есть ли кто в доме, помимо хозяев. Не найдя никого лишнего, вышли во двор. Кто-то уже резал овцу.
Михайло, стоя посреди двора, был похож на подбитую камнем птицу. Сгорбленный, унылый, он спокойно взирал на бесчинства у себя во дворе.
Приблизившись к нему, офицер в очках на фуражке наотмашь ударил его по лицу. В грохоте гусениц терялись звуки. Но я все-таки расслышал окончание фразы, из которой следовало понимать, что немец спрашивает, видел ли Михайло русских военных. Совершенно неуместный, заданный ради вопроса вопрос. Такие вопросы обычно задают, когда планируют доказать, что человек что-то скрывает. После чего наказать. Удовлетворившись тем, что из носа мужика пошла кровь, офицер, хлопая ладонью по кобуре, стал прогуливаться по двору.
Я посмотрел вдаль, насколько позволяла щель меж крышей и стеной.
— Что там?
— Всю деревню заняли, — объяснил я Мазурину. — Похоже, намечается большой обед. Танки проезжают мимо… — Я дождался, пока стихнет лязг гусениц последнего. — Уже проехали… Пехота обосновывается.
— Надолго?
— Сходить спросить?
Мазурин на это ничего не ответил. Подползши ко мне, он пригляделся. Я заметил, как утренние солнечные лучи мгновенно сузили зрачки в его карих глазах. Губы его шептали: «Сколько же их здесь…»
— Больше, чем заключенных в ГУЛАГе?
Он помолчал и вернулся на свое место.
— Касардин, вы когда-нибудь думали о своей последней минуте?
— Это что, урок философии?
Он осторожно вынул из автомата рожок и заглянул в него. Все, что он мог там увидеть, это верхний патрон.
— Сейчас они полезут на чердак.
— Не факт, — поторопился возразить я. — Вы мечтаете об этом?
— Я вот что сделаю, когда это случится. Я начну стрелять и буду делать это до последнего патрона. Потом меня убьют. Но в мгновение между последним своим выстрелом и выстрелом в меня я, наверное, о чем-то подумаю. Вот я и спрашиваю — о чем будете думать вы?
Я отвернулся к стене, выглядывая на улицу.
О Юле я буду думать. О нашей первой и последней ночи в ленинградской гостинице. О том, как податлива она была и мы пожирали друг друга до рассвета. Такого же рассвета, как сейчас, когда небо бесцветно, а ветер прозрачен и тих…
Вздрогнув от крика на улице, я прижался щекой к бревнам.
Сноху хозяина волокли в дом двое немцев. Офицер — я хорошо различал лейтенантские знаки различия — лукаво улыбался и держал руки на груди. Сидя на мотоциклах, курили солдаты. А двое из них волокли девчонку в хату.
— Что там происходит?
— Самое неприятное, — ответил я, размышляя, как поступить.
— Кого-то убивают?
— Если бы.
— А что хуже смерти?
Я посмотрел на него.
— Девчонка?… — после недолгой паузы проговорил Мазурин, и в этот момент под нами раздались шаркающие шаги, грохот чугунка, крик ребенка на улице и безумный женский вопль в доме.
Я снова прижал щеку к бревнам. Михайло, выкрикивая проклятья, бился в руках нескольких солдат. Рядом с ним, на земле, упав на корыто для корма кур и поставив его на дыбы, причитала баба. На руках она держала внука и, подвывая, качалась вперед и назад. Перед ней стоял немец и держал автомат так, что даже у меня не закралось и тени сомнений: встань она — и тут же умрет.
Треск раздираемой материи возвестил о том, что насилие вступило в начальную стадию. Двое солдат вермахта предались любимому развлечению выродившихся духовных наследников Нерона и Чингисхана.
— И мы будем сидеть здесь и это слушать?… — серыми, как сырые котлеты, губами проговорил Мазурин.
— Закройте дверь, — услышал я офицерский совет с улицы, — иначе вас замучают советами!
На улице раздался хохот вразнобой. Как бы ни пусто звучал совет, в доме послышались шаги, хлопнула дверь, и раздался звук падающего крючка. Видимо, жажда двоих ублюдков достигла своего апогея, и они реагировали на все неадекватно просто.
Мы с Мазуриным переглянулись и поползли к краю сеновала. Лестницы, понятно, не было, ее Михайло убрал, чтобы не возбуждать интереса к чердаку. Я придержал автомат Мазурина, пока он, уцепившись руками и морщась от боли, спускал свое тело вниз. Следом, подав ему оба автомата, сполз по стене и я.
Мы вошли в хату тихо и беспечно, как свои.
На кровати, рядом с пустой колыбелью, билась едва ли не как в агонии молодая женщина. На нее уже забрался один из немцев и, роясь рукой у себя в мотне, пытался что-то вытащить наружу. Второй, удерживая руки женщины, тоже полулежал на ней и дергался в такт ее агонии спиной к нам.
Голые полные ноги, они взметались в разные стороны, уже прижатые мужским телом. Немец наконец-то справился со своими штанами, и в тот момент, когда он закричал: «Сейчас, сейчас, дрянь!» — Мазурин подошел и одним ударом снес его с кровати. Звук, который раздался при соприкосновении автомата с затылком немца, передать невозможно. Его можно только услышать. Что-то среднее между переломленной о колено тростью и ударом лошадиного копыта об асфальт.